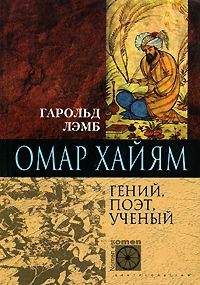Как-то раз отец созвал на совещание всех своих бойцов. Мы с братьями тоже потащились за всеми следом, размышляя, что такого могло случиться.
Отец заговорил о радости самопожертвования, о том, что для мусульманина величайшая честь — отдать жизнь за дело ислама. Я окидывал взглядом комнату, пока отец говорил, изучая лица его бойцов. И заметил, что старшие испытывали легкую скуку, но у молодых, недавно вошедших в «Аль-Каиду», лица сияли.
Когда совещание закончилось, отец созвал всех своих сыновей, даже самых маленьких. Он отпустил своих людей, в том числе тех, кто всегда держался подле него. И я подумал, что мне представляется возможность поговорить о здоровье матери и о том, что ей нужен хороший врач, чтобы родить своего одиннадцатого ребенка.
Отец пребывал на редкость в хорошем расположении духа после успешного разговора с бойцами. У него, несомненно, был дар вдохновлять юнцов жертвовать своими жизнями. Выходя из комнаты совещаний, я заметил нескольких молодых бойцов, царапавших свои имена на листке — списке смертников.
Взволнованным голосом отец начал говорить:
— Сыновья. Садитесь рядом, в кружок. Мне надо вам кое-что сказать.
Когда мы сели у его ног, отец произнес:
— Послушайте меня, сыновья, на стене мечети висит листок. Он для мужчин, которые хотят проявить себя как добрые мусульмане. Для тех, кто вызвался стать смертником, взорвав бомбу.
Он посмотрел на нас выжидательно, глаза его блестели.
Впервые в жизни мы не глядели в пол. Мы с удивлением воззрились на отца, но никто не проронил ни слова. Что до меня, то я был так изумлен, что слова, вертевшиеся у меня в голове, застряли в горле.
Отец не сказал нам, что мы должны добавить свои имена к списку смертников, но его слова и ожидание, ясно читавшееся на лице, подразумевали, что этим мы доставили бы ему великое счастье.
Никто не шевелился.
Отец повторил свои слова:
— Сыновья мои, на стене мечети висит листок. Он для тех, кто вызвался стать смертником, взорвав бомбу. Те, кто хочет отдать жизнь во имя ислама, должны вписать свое имя в этот список.
И тогда один из моих младших братьев, слишком юный, чтобы понимать, что такое жизнь и смерть, поднялся на ноги и с благоговением в глазах кивнул отцу. А потом побежал в сторону мечети. Маленький мальчик вызвался стать смертником.
Я пришел в ярость и наконец обрел дар речи:
— Отец, как ты можешь просить о подобном своих сыновей?
В последние месяцы недовольство отца моим поведением росло. Я приносил ему одни разочарования: сын, который отказался быть его преемником, который мечтал о мире, а не о войне. Он уставился на меня с явной враждебностью и махнул рукой:
— Омар, ты должен кое-что понять. Ты занимаешь в моем сердце ничуть не больше места, чем любой другой мужчина или мальчик в этой стране. — Он взглянул на моих братьев. — Это в равной степени относится к каждому из моих сыновей.
Отец выказал нам свои истинные чувства. Его любовь к сыновьям была лишь слабым проявлением физического родства, она не проникла в глубь его существа, и его сердце осталось не тронутым отцовской привязанностью.
Эта горькая правда причинила мне жестокую боль. Наконец-то я знал, где мое место. Ненависть отца к его врагам была куда глубже, чем любовь к сыновьям. И в тот самый момент почувствовал, что буду дураком, если потрачу зря еще хоть одно мгновение своей жизни.
Я знал теперь, что уеду, и уеду очень скоро. И, покидая отца навсегда, буду сожалеть ничуть не больше, чем он, посылая на смерть собственного сына. Единственной трудностью для меня была организация отъезда матери и ее детей.
Мы с братьями молча ушли. Только младший из нас порадовал гордость отца, выразив готовность пожертвовать собой ради его джихада.
Прождав еще несколько дней, я наконец получил возможность переговорить с отцом наедине. Увидел, как он идет из одного здания в другое. Перед этим я долго сидел в засаде, стараясь выждать момент, когда рядом с ним не будет всей его свиты.
И хотя он сделал вид, что не замечает меня, я заговорил:
— Отец. Меня беспокоит здоровье моей матери. Она уже в том возрасте, когда рожать детей становится опасно. Ты не разрешишь мне отвезти ее в Сирию, к ее матери? Думаю, тогда не будет риска ее потерять.
Отец ничего не ответил, но быстро взглянул мне в лицо. Я знал, что в последнее время чувства отца ко мне охладели до такой степени, что это принимало угрожающие для меня формы.
Но меня ничто не могло остановить, Я стал одержим, как несколько лет назад, когда донимал отца разговорами о том, что ненавижу насилие, заполонившее всю мою жизнь.
И на следующий день я вновь обратился к нему с той же просьбой.
Я все время умолял его об одном и том же: отвезти мать туда, где ей будет лучше рожать ребенка. Старался хотя бы раз в день напомнить ему об этом, иногда дважды в день — и всегда в присутствии других мужчин, потому что больше не представлялось случая остаться с ним наедине.
После десяти дней такого преследования отец в конце концов прислал за мной одного из своих людей. Я пошел к отцу с неохотой, опасаясь, что он, устав от моих приставаний, решил посадить меня под замок.
Когда я вошел, он встретил меня без особой радости, но оказалось, что мои доводы возымели действие.
— Хорошо, Омар, — согласился он, — твоя мать может поехать в Сирию рожать ребенка.
Он посмотрел на меня с неприязнью, словно давая мне последний шанс передумать.
— Да, отец. Я отвезу ее.
Он воздел руки к небу.
— Помни, Омар: тебе придется держать ответ перед Господом.
Другими словами, отец хотел сказать, что, по его мнению, покидая его в такой момент, я предавал свою веру. Я повторил:
— Да, отец. Я отвечу перед Господом. Я отвезу мать в Сирию.
Отец вздохнул, потом подозвал к себе одного из своих людей и дал ему немного денег. Потом дал мне знак взять деньги у того из рук.
— Если ты будешь бережлив, этого хватит, чтобы добраться в Сирию. Помни, ты отвечаешь за безопасность матери.
— А дети? Можно матери взять с собой младших детей?
Отец помолчал, потом высказал свое решение:
— Она может взять Рукхайю. И Абдул-Рахмана.
Рукхайе было всего два года, так что это меня не удивило. Абдул-Рахман поможет нам с матерью в дороге. Но как же другие дети, которым мать была необходима?
— А как же Иман? Ладин? — спросил я.
Иман было всего девять, а Ладину пять. Оба ребенка были очень застенчивыми, они привыкли все время проводить с матерью. Я не хотел оставлять их в Афганистане, потому что, увезя мать из этой страны, надеялся уговорить ее не возвращаться назад.
Но отец был слишком хитер: он знал, что мать не сможет навеки расстаться с Иман и Ладином.
— Нет. Иман и Бакр (так отец называл Ладина) должны остаться со мной. Только Рукхайя и Абдул-Рахман. Больше никто.
Я попытался снова. Стал умолять его отпустить малышей с нами, но он нетерпеливо вскинул руку:
— Нет. Ты же знаешь, что спорить бесполезно. И больше не заговаривай об этом. Только Рукхайя и Абдул-Рахман.
Я кивнул. Я сделал всё, что мог. Побеспокоюсь о младших детях потом. А пока отвезу мать туда, где она будет в безопасности.
Получив разрешение отца, я помчался домой сообщить матери, что мы скоро уезжаем. Хоть она и ни разу не выражала желания уехать, я увидел, как ее лицо просияло, правда, она огорчилась, узнав, что Иман и Ладин останутся здесь.
Но в тот момент я об этом не думал.
Мы уезжали из Афганистана.
Наша радость тут же сменилась огорчением. Когда мать сказала Иман и Ладину, что ненадолго уедет, оба разнервничались и выглядели до смерти напуганными. После долгих объяснений малышка Иман приняла с покорностью свою судьбу, потому что привыкла делать то, что ей велят, но Ладин никак не мог успокоиться. Он плакал жалобно и безутешно, оттого что мать уезжала без него. И даже мысль, что у него появится новый братик или сестренка, не помогла унять его страдания.
Меня продолжали терзать раздумья о больших планах отца — тех, о которых меня предупреждал Абу-Хаади. Я молился, чтобы отец отменил их или хотя бы отложил до того момента, когда мне удастся вытащить отсюда Иман и Ладина.
В день отъезда мы все были на нервах. Ладин продолжал ныть, умоляя взять его с собой. Наконец он совсем раскис и громко зарыдал. Он следовал за мной по пятам, дергал за штанину и повторял:
— Братец, возьми меня с собой. Братец, возьми меня с собой.
Мне пришла в голову мысль схватить его украдкой, когда никто не видит, и, шепнув, чтобы сидел тихо, засунуть под матрас в кузов машины, но мне не представилось такой возможности. Отец и его люди все время наблюдали за нами, их зоркие, словно у ястребов, глаза не упускали ни одной мелочи. Кроме того, отец решил, что моя сестра Фатима и ее муж Мухаммед проводят нас до границы Пакистана.