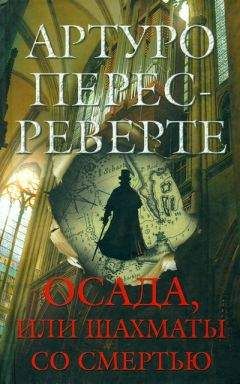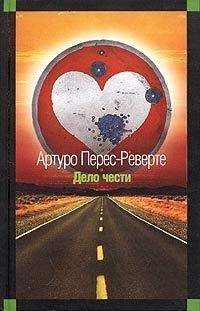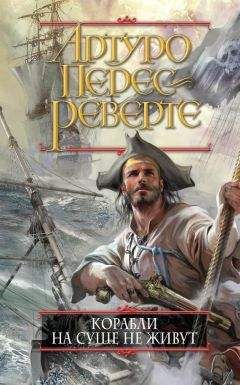10
День — пасмурный, прохладный; северный ветер рябит в отдалении воду в каналах. Фелипе Мохарра вышел из дому рано — сумка на плече, одеяло на плечах, войлочная шляпа с отогнутыми кверху полями и низкой тульей туго нахлобучена до бровей, наваха с роговой рукоятью сунута за кушак, — потому что предстояло одолеть четверть лиги по обсаженной деревьями дороге, ведущей из деревни на Исле в Сан-Карлос, где стоит гарнизон и разбит военный госпиталь. Сегодня солевар надел альпаргаты. Он направляется проведать свояка Карденаса: тот медленно, с осложнениями, оправляется от французской пули, которую получил, когда брали канонерку у мельницы Санта-Крус. Пуля всего лишь отщепила кусочек кости, однако рана загноилась, воспалилась, и Карденас все еще довольно слаб. Мохарра навещает его, когда только может — если не надо исполнять службу: идти с геррильерами или ползти с капитаном Вируэсом осматривать неприятельские позиции, — носит ему, чего жена состряпает, беседы беседует под табачок. И всякий раз для него это тяжкий искус, и даже не из-за самого свояка, который все же выздоравливает, а из-за того, что там, в госпитале, творится.
Миновав казармы флотского экипажа, Мохарра шагает по прямым улицам военного городка, оставляет позади эспланаду возле церкви и, назвав себя часовому, входит в стоящее слева здание. Поднимается по ступеням и, чуть только оказывается в вестибюле, соединяющем две огромные госпитальные палаты, испытывает гнетущее чувство, которое возникает всякий раз, стоит лишь ему попасть сюда, в это гиблое место, и заставляет вздрогнуть от приглушенного однообразного рокота — это стонут несколько сотен человек, распростертые на соломенных тюфяках: ряды их тянутся от самых дверей и исчезают, кажется, в бесконечности. Следом приходит запах, уже ставший привычным, но от того не менее тошнотворный. Окна открыты, однако свежий воздух не в силах справиться со сладковатым смрадом изъязвленного, гниющего под бинтами мяса. Мохарра снимает шляпу, стягивает с головы платок.
— Ну, ты как?
— Сам видишь. Не загнулся пока.
Глаза у него обведены красными кругами и блестят лихорадочно. Вид неважный. Щеки — в густой щетине и оттого словно бы ввалились еще больше. Голова обрита, рана — не забинтованная, чтоб отток легче шел, — и в самом деле кажется пустячной по сравнению со всем тем, что в изобилии немыслимом представлено в этой палате, переполненной ранеными, больными и искалеченными. Здесь солдаты, моряки и мирные жители, пострадавшие в ходе последних боев и вылазок на оккупированные территории, но также — и прошлогодних сражений в Эль-Пуэрто, Трокадеро и Сан-Лукаре, и злосчастной попытки Сайаса взять Уэльву и провалившегося наступления генерала Блейка на графство Ньебла и Чиклану. Зловонные, месяцами не рубцующиеся выбоины и провалы в человеческом теле, лиловатые швы культей на месте отрезанных рук и ног, зияние ран — пулевых, рубленых или колотых — в черепах и конечностях, прикрытые повязками незрячие глаза или пустые глазницы. И — глуховатый стон, постоянно звучащий под сводами этого зала, где, будто возведенное в предельный градус крепости, сосредоточилось, кажется, все страдание мира.
— Что врачи говорят?
Свояк вздохом выражает покорность судьбе:
— Я и без них знаю, что пора укладываться в дорогу. Скорую и дальнюю.
— Что за мысли такие? Выглядишь неплохо…
— Да не заливай мне… Сделай лучше покурить…
Мохарра достает две уже свернутые самокрутки, одну протягивает Карденасу, другую сует в рот, высекает огонь. Бартоло, с усилием приподнявшись, садится на край постели — простыня грязная, одеяло жиденькое и ветхое, — глубоко затягивается. Вот хорошо-то, говорит он. Первая за две недели. Славный табак Мохарра тем временем извлекает из котомки перетянутый шнуром сверток — несколько ломтиков вяленого мяса, соленый тунец. Следом — глиняную миску тушеного турецкого гороха с треской, бутылочку вина, шесть самокруток.
— Сестра твоя прислала. Смотри, чтоб не увели ненароком…
Карденас, оглядевшись не без опаски, кладет сверток под топчан, а миску ставит на пол, к босым ногам.
— Как там твои девчонки?
— В порядке.
— А та, что в Кадисе?
— А та еще лучше.
Мохарра рассказывает новости. На каналах продолжаются вылазки и набеги с обеих сторон, но французы сейчас больше обороняются. Бьют по Исле и по городу, но без особых последствий. Ходят слухи, будто генерал Бальестерос отступил со своими людьми на Гибралтар, под защиту британских батарей, а лягушатники меж тем угрожают Тарифе и Альхесирасу. Еще будто бы снарядили экспедицию в Веракрус, бить тамошних мятежников. Он, Мохарра, и сам с другими односельчанами вместе хотел было записаться туда, но дон Лоренсо Вируэс, вовремя взяв его к себе, вытянул из злой нужды. Ну вот, наверно, и все, больше нечего рассказывать.
— Как он, кстати, капитан твой?
— Да как всегда. Рисует и поднимает меня ни свет ни заря.
— А что мы в последнее время еще потеряли?
— Да мы, считай, все потеряли. Кроме Кадиса и Ислы.
Карденас в горькой усмешке обнажает бескровные десны:
— Расстрелять бы за измену человек двадцать генералов…
— Да здесь не в одних генералах дело. Каждый тянет в свою сторону, никто ни с кем не может договориться. Люди делают, что могут, а их бьют как мух… Немудрено, что столько дезертиров и что такое множество народу уже подалось в горы. Солдат с каждым днем все меньше, геррильеров все больше.
— А лососи — что?
— А им что? Свое гнут.
— Англичане, нашим не в пример, знают, чего хотят.
— Еще бы им не знать… Делают свое дело и чхать на все хотели.
Пауза. Оба курят в молчании, стараясь не встречаться глазами. Но Мохарру все же так и тянет взглянуть на рану. Крестообразное отверстие в бритом черепе свояка похоже на разинутый рот с рассеченными сверху донизу губами, с какой-то влажной белесоватой коркой внутри.
— Я слыхал, падре Ронкильо расстреляли, — говорит Карденас.
Так и есть, подтверждает Мохарра. Ронкильо, священник из Эль-Пуэрто, после того как французы спалили его церковь, повесил, как говорится, сутану на гвоздик, сколотил отряд, очень скоро превратившийся в обыкновенную разбойничью шайку — грабили и убивали без разбору и проезжающих, и крестьян. Потом вместе со своими людьми расстрига вообще передался французам.
— Скоро месяц, как наши устроили ему засаду под Кониле. А как поймали — сам понимаешь…
— Что ж, туда ему и дорога.
Мохарра поворачивает голову на неожиданные звуки поблизости. На топчане корчится и бьется голый парень, связанный по рукам и ногам. Тело его бешено выгибается дугой, стиснутые зубы скрежещут, кулаки сжаты, сведенные судорогой мышцы напряжены до предела, глаза выпучены, а изо рта рвется прерывистый глухой крик запредельной ярости. Никто, однако, не обращает на него внимания. Это солдат Кантабрийского батальона, объясняет Карденас, ранили его полгода назад под Чикланой. Никак не получается извлечь у него из башки французскую пулю, и вот время от времени его бьет и крутит как в падучей. Так и живет врастопыр: не вполне мертвец, не совсем живой. Его время от времени перекладывают с топчана на топчан, чтобы всем в палате доставалось от его корчей и криков поровну. Кое-кто уже предлагал придушить его ночью подушкой, чтобы сам не мучился и людям покой дал, однако не решаются: здешние лекари очень им интересуются, приходят, осматривают, других приводят, показывают, записывают что-то, изучают… Когда его положили рядом, Карденас первое время от криков раза два-три за ночь так и вскидывался. Потом ничего, приобвык.
— В общем-то, все одно…
При упоминании битвы при Чиклане Мохарра кривится. Не так давно благодаря доносу одного лекаря сделалось известно, что сколько-то человек, раненных там, померли в Сан-Карлосе от плохого ухода, проще же говоря — с голоду, а деньги, выделенные на то, чтобы закладывать в котел свиное сало и турецкий горох, по назначению не попали, а были попросту растащены чиновниками. Министр финансов, в ведении которого был госпиталь, отозвался моментально и обвинил кадисскую газету, опубликовавшую эти жуткие сведения, в клевете. А потом дело замотали бесчисленными комиссиями, посещениями депутатов и кое-какими мелкими улучшениями. И сейчас, вспоминая эту громкую историю, солевар глядит вокруг себя на тех, кто распростерт на соломе, или стоит, опираясь на костыли и палки, у окна, или бесплотным призраком бродит по залу, самым видом своим опровергая слова вроде «героизма», «славы» и прочих, столь употребительных в устах зеленых юнцов и людей простодушных, а равно и таких, которые никогда и нипочем не окончат свои дни здесь. Мохарра смотрит на раненых: было время — они, храбрецы и трусы, сражались с ним вместе за своего томящегося в плену короля и за честь оккупированной отчизны, а железо и огонь уравнивали в несчастье их всех. Их, защитников Ислы, Кадиса, Испании. Ну вот им и вышла награда: изможденные лица, ввалившиеся глаза с лихорадочным блеском, пергаментная кожа, а впереди — смерть или жизнь нищего калеки. Они стали бледными подобиями самих себя прежних. И он, Мохарра, вполне мог бы лежать сейчас здесь. Оказаться на месте свояка с незарастающей дыркой в голове или этого корчащегося в своих путах бедолаги с унцией свинца в мозгах.