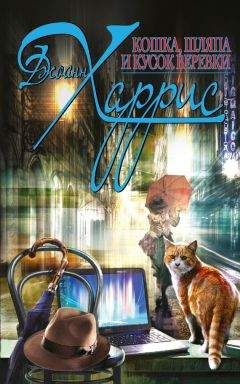И то ли красное платье помогло, то ли я каким-то немыслимым образом почуяла в этом ветре некий заветный след, но, несмотря на всю мою тревогу, несмотря ни на что — ни на гнусные сообщения Тьерри, ни на душевную боль при любой мысли о Ру, ни на мои бессонные ночи и страхи, — я обнаружила, что напеваю за работой.
Такое ощущение, что перевернута очередная страница моей жизни. И я впервые за несколько лет почувствовала себя свободной — от Тьерри и даже от Ру. Свободной жить, как я хочу, и быть тем, кем я хочу, — впрочем, я и сама не знаю, кем я хочу быть.
Зози на это утро взяла выходной. Я впервые за несколько недель осталась дома одна, если не считать Розетт, конечно, которая была полностью поглощена своей коробкой с пуговицами и альбомом для рисования. Я почти позабыла, что значит стоять за прилавком в переполненной кондитерской, разговаривать с покупателями, выяснять, что они любят больше всего…
Я была, пожалуй, даже несколько ошеломлена тем, что у нас теперь столько постоянных клиентов. Я, разумеется, знала, работая на кухне, сколько человек к нам приходит, кто что покупает, но как-то не отдавала себе отчета в том, что этих людей теперь так много. Зашла мадам Люзерон, хотя это вовсе и не ее день. Затем забежали Жан-Луи и Пополь — их влечет сюда возможность посидеть в тепле и набросать несколько портретов, а также явное пристрастие к моему кофейно-шоколадному слоеному торту. Затем Нико — он теперь сидит на диете, которая, впрочем, допускает поедание миндального печенья в огромных количествах, и Алиса: она принесла нам букет падуба и, как всегда, попросила коробочку своей любимой шоколадной помадки. Заходила даже мадам Пино, спрашивала, где Зози…
Правда, об этом спрашивала не только она. Этим интересовались все наши постоянные покупатели. А Лоран Пансон — он явился при полном параде, вычищенный и сияющий, и приветствовал меня изысканным поклоном — и вовсе сник, увидев за прилавком не Зози, а меня; и мне показалось, что его сбило с толку именно мое красное платье.
— Я слышал, у вас будет праздник, — сказал он.
Я улыбнулась.
— Да, маленькое торжество. В канун Рождества.
Он одарил меня своей улыбкой престарелого фавна, которой обычно пользуется в присутствии Зози. От нее мне известно, что Лоран одинок — ни семьи, ни детей; это особенно грустно в канун Рождества. Я не очень люблю этого человека, но все же невольно его пожалела, заметив, какой у него на сорочке обтрепанный, желтоватый от стирки воротничок и как он улыбается — точно голодный пес.
— И вы, конечно, тоже приходите, мы будем очень рады, — тут же сказала я. — Но если у вас иные планы…
Он слегка нахмурился, делая вид, что пытается припомнить, как именно расписаны его «невероятно загруженные» предрождественские дни.
— Что ж, я, возможно, и зайду, если сумею, — сказал он. — Дел, конечно, полно, однако…
Я прикрылась рукой, чтобы он не заметил моей улыбки. Лоран — такой человек, которому необходимо чувствовать, что он, принимая ваше приглашение, делает вам огромное одолжение.
— Будем очень рады вас видеть, месье Пансон, — повторила я.
Он пожал плечами и великодушно согласился:
— Ну, если вы так настаиваете…
Я улыбнулась.
— Вот и чудесно.
— Осмелюсь заметить, вам это платье очень идет, мадам Шарбонно.
— Называйте меня просто Янна.
Он снова поклонился. И я почувствовала запах пота и масла для волос. Мелькнула мысль: неужели Зози каждый день вот так любезничает со всеми, пока я вожусь на кухне с шоколадом? Неужели именно поэтому у нас так много покупателей?
Какая-то дама в изумрудном пальто покупала подарки на Рождество. Ее любимые сласти — карамельные завитушки, и я без колебания так ей и сказала, прибавив, что ее мужу непременно понравятся мои абрикосовые сердечки, а дочка будет в восторге от шоколадок с перцем чили в золоченых обертках…
Что это со мной? Что вдруг так переменилось?
Я, похоже, охвачена новым ощущением беспечности, надежды, уверенности. Я как будто совсем уже и не я, а некто куда более близкий к Вианн Роше, к той женщине, которую некогда занесло в Ланскне на хвосте карнавального ветра…
Снаружи ветра почти не слышно, и колокольчики над дверью молчат, и небеса низкие, темные, полные невыпавшего снега. Неестественно теплая погода, стоявшая всю неделю, сменилась заморозками, и дыхание застывает в холодном воздухе пышными перьями, а прохожие, пересекающие площадь, напоминают расплывчатые серые колонны. На углу музыкант играет на саксофоне «Petite Fleur», и саксофон поет тягучим, почти человеческим голосом.
А я думаю: «Ему же, наверное, холодно».
Странная мысль для Янны Шарбонно. Для настоящих парижан подобные мысли непозволительны. Здесь, в этом городе, слишком много бедных людей, бездомных людей, старых людей, и все они в своих одежках похожи на свертки из Армии спасения, разложенные у дверей магазинов и в глухих переулках. Всем им холодно; все они хотят есть. Настоящим парижанам нет до них дела. А я действительно хочу стать настоящей парижанкой…
Но музыка все играет, напоминая мне о других местах и временах. И сама я тогда была не я, а кто-то другой, и плавучие дома стояли на реке Танн так тесно, что по ним можно было перебраться с одного берега на другой. Тогда тоже звучала музыка — железные барабаны, скрипки, свистульки, флейты. Речной народ, по-моему, и жил за счет музыки; и хотя кое-кто из деревенских жителей называл их попрошайками, я ни разу не видела, чтобы они попрошайничали. Вот тогда у меня даже малейших сомнений не возникло бы…
«У тебя есть определенный дар, — говорила мне мать, — а дары для того и предназначены, чтобы их отдавать…»
Я готовлю горячий шоколад. Наливаю полную чашку и вместе с куском шоколадного торта несу ее саксофонисту — он удивительно молод, не старше восемнадцати. Нечто подобное Вианн Роше сделала бы не задумываясь…
— За счет заведения, — угощаю я его.
— Ой, спасибо! — Его лицо освещает улыбка. — Вы, должно быть, из этой шоколадной лавки? Я о вас слышал. Вы ведь Зози, верно?
Я вдруг начинаю смеяться, что выглядит несколько диковато. У этого смеха тот же горьковато-сладкий привкус, как и у всего этого странного дня, но саксофонист, похоже, ничего не замечает.
— Что вам сыграть? — спрашивает он меня. — Я сыграю все, что хотите. За счет заведения… — прибавляет он с улыбкой.
— Я… — Я замялась. — Вы знаете «V'là l'bon vent»?
— Да. Конечно. — Он берет в руки свой сакс и говорит: — Только для вас, Зози.
И когда саксофон начинает петь, меня пробирает дрожь, но не только от холода, и я бреду назад, к «Шоколаду Роше», где Розетт по-прежнему тихо играет на полу среди тысяч рассыпанных пуговиц.
18 декабря, вторник
Остаток дня я провела на кухне, предоставив Зози возможность общаться с покупателями. Покупателей у нас теперь хоть отбавляй; их так много, что мне одной было бы просто не управиться, и это хорошо, что Зози по-прежнему охотно мне помогает; чем ближе Рождество, тем сильнее ощущение того, что у половины населения Парижа внезапно прямо-таки страсть возникла к шоколаду домашнего приготовления.
Запасы глазури, которых, как мне казалось, хватит до самого Нового года, уже через две недели совершенно иссякли, и теперь товар нам поставляют каждые десять дней, чтобы хоть как-то соответствовать возрастающему спросу. О таких доходах, как сейчас, я никогда и мечтать не осмеливалась, а Зози по поводу всех этих метаморфоз твердит одно: «Я же говорила, что перед Рождеством дела у нас пойдут в гору!», словно подобные чудеса каждый день случаются…
А я все не перестаю удивляться тому, как быстро все переменилось. Три месяца назад нас здесь, на Холме, считали чужаками, чуть ли не изгоями. Теперь же мы — такая же часть здешнего пейзажа, как кафе «У Эжена» или «Крошка зяблик»; и местные жители, которым даже в голову не придет зайти в магазин для туристов, заходят к нам раза два в неделю (а некоторые и вовсе почти каждый день), чтобы выпить кофе или горячего шоколада, съесть кусочек торта или пирожное.
Что же все-таки случилось? С чем связаны подобные перемены? С шоколадом, конечно. Я, например, точно знаю, что мои самодельные трюфели значительно лучше любых, сделанных на фабрике. Да и оформление покупателям тоже явно нравится больше; а поскольку Зози по-прежнему мне помогает, у меня остается даже время, чтобы ненадолго присесть и поговорить с людьми.
Монмартр — это нечто вроде деревни внутри большого столичного города; и он остается глубоко, хотя и несколько двусмысленно, ностальгическим со своими узкими улочками, старыми кафе и домиками в деревенском стиле, с побеленными стенами, фальшивыми ставнями на окнах и яркими геранями в терракотовых горшках. Обитателям Монмартра, точно выселенным на необитаемый остров, возвышающийся над суетливым и вечно меняющимся Парижем, порой кажется, что они живут в последней деревне на свете, — вот они и стремятся сохранить ее, точно некий мимолетный вздох времени, когда все казалось им проще и милее, когда двери всегда оставались незапертыми, когда любой недуг или несправедливость можно было исцелить с помощью плитки шоколада…