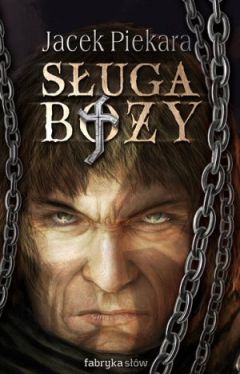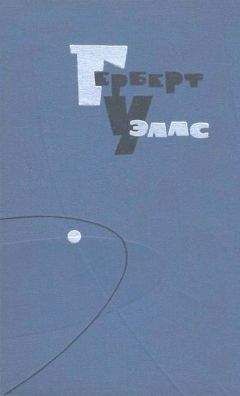Все-таки Конрад хороший писатель!
“Китайское море” я поменял на “Карибское”.
Наш герой видит, как у сквайра, отца его первой любви, вырвало из рук конец линя, и сам, по своей воле, бросается за борт, чтобы поддержать утопающего. Он обвязывается веревкой, страшный удар, вода как бы твердая, веревка натягивается, волна бьет ему в лицо, он не может дышать, отворачивается, хватает ртом смесь воздуха и воды, петля каната под мышками в кровь истирает кожу, режет, грозя разорвать его надвое, отсюда, снизу, судно кажется очень большим, громада, заслоняющая небо, и несется оно прочь в океанских водах очень быстро, и тут он видит мелькающий в волнах яркий камзол и из последних сил…
Мне и самому понравилось.
Я и сам видел эту воду, ее стеклянную стену, ее заворачивающийся гребень, пенный, чуть розоватый, мне не хватало воздуху, и я тянул шею, чтобы избежать смертоносных объятий волны, и тут…
— Да, — сказал я, — да, слушаю.
У моих героев не было сотовых. Никто не мог их достать в тропических морях. Ни одна сволочь.
— Сенька, у тебя все в порядке?
— Да, — сказал я осторожно, — в порядке. А что?
— Папа здоров?
— Здоров. Все нормально. Как там, в Цюрихе?
Преамбула для Ковальчука длинновата. Не такой он был человек, чтобы спрашивать о здоровье чужих родственников, да еще по международному тарифу. Я сразу насторожился.
И голос у него был чуть выше обычного. Может, конечно, низкочастотная составляющая теряется при передаче.
— Цюрих на месте, — сказал Ковальчук, — только это Бёрн. Не Цюрих, Бёрн. У тебя точно все нормально?
— Все нормально. Дома все спокойно. Дача на месте. Ничего не взорвалось, ничего не сгорело, ничего не протекло. Котел работает. За электричество я заплатил. За газ тоже. До конца сезона поливал. По утрам, как ты велел. Регулярно.
— А что ты сейчас делаешь?
— Сижу за столом. Пытаюсь работать. С тобой разговариваю.
— И девок никаких не водишь? — спросил Ковальчук подозрительно.
— Я не вожу никаких девок. Не веришь, спроси у соседей. У этой, как ее...
Я попытался вспомнить, как зовут эту, как ее, и не смог.
— Ну хорошо, — неубедительно сказал Ковальчук, — ну ладно…
Он скорее всего купил карточку, по карточке это копейки стоит, или что там у них, а с меня, по-моему, все равно эти гады сдерут, даже если звонок входящий.
— Валька, — спросил я напрямик, — ты чего?
У меня образовалась неприятная пустота под ложечкой.
Не люблю разговаривать по телефону, разве что коротко и по делу. Мне надо видеть собеседника. Валька наверняка сейчас дергает себя за ухо. Есть у него такая привычка, когда ему неуютно или неловко…
— Ничего… подвернулся один вариант, понимаешь. У меня нет претензий, ты не думай. Но тут дорого все, в Цюрихе.
— В Бёрне?
— Ну да, в Бёрне. Транспорт, и вообще… Ты без обид, а? Это ж не то что на улицу.
— Я не могу жить с папой, — сказал я, — мне надо работать. В чем дело, Валька? Мы же договаривались.
— Мы договаривались, что ты присмотришь за дачей, пока других вариантов нет. — Голос Вальки стал жестче, он для себя решил, что я неблагодарная свинья, готовая укусить дающую руку. — А другие варианты появились.
Гребень волны с грохотом перекинулся за борт, и этот грохот слился с оглушительным ревом вокруг. Волна трепала меня, крутила и швыряла, я мысленно повторял: “Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой!”
Что я буду делать? Это же конец всему!
— Валька, — сказал я мерзким заискивающим голосом, — вот сколько они тебе обещают?
— А тебе какое дело? — сухо спросил он.
— Ну все-таки?
Он сказал. Мне показалось, он соврал. Завысил сумму. Ему было неловко, что он предал меня так дешево.
На всякий случай я спросил:
— За сезон или за месяц?
Он помялся, но честность взяла верх:
— За сезон.
Тогда ладно. Тогда еще ничего.
— Я буду платить столько же.
Там, далеко, в своей Женеве, Валька молчал.
Потом сказал:
— Неудобно как-то. Со своих брать.
— Свои лучше, чем чужие. — Я оглядел книги на полках, камин, прекрасную зеленую лампу… — Ты ж меня знаешь. А тут неизвестно кто…
— Вообще-то известно кто, — пробурчал Валька.
— Валька, — сказал я, — не морочь голову. Я тебе на этой неделе заплачу. Вперед. На твой счет положу, хочешь? Или через “Вестерн Юнион”?
Я старался не оставлять ему путей к отступлению, теперь, если он мне откажет, он сам себя почувствует последней сволочью.
— До конца месяца сможешь?
— Да, — сказал я, — смогу.
Он стоял у калитки.
Еще бы. Он знал мой адрес, так сам сразу и сказал.
Я сказал:
— Послушайте, ну что вам надо? У меня сейчас есть работа. Заказ. Я не могу работать над двумя заказами сразу. И вообще…
— Можно все-таки войти?
Серебристая “мазда” стояла у ворот, в сумерках она казалась полупрозрачной.
Я посторонился.
Он пошел по дорожке, мне оставалось только идти за ним, уставясь в его крепкий затылок. Интересно, а у меня-то какой затылок? В двух зеркалах, поставленных напротив друг друга, можно увидеть свою спину, в парикмахерской, например… Смотришь на себя в непривычном ракурсе и сразу понимаешь, что ты чужой себе человек.
— Декорация, — сказал он, оглядывая комнату, — для лохов.
— Я тут живу.
— Значит, живете внутри декорации.
Чаю я ему не предложил. Даже сесть не предложил. Это и не понадобилось. Он уселся в кресло, сложил руки на коленях и молча посмотрел на меня.
Я тоже молчал. Молчание висело в комнате как целая тонна стекла.
Наконец я не выдержал:
— Это вы устроили. Натравили на меня Ковальчуков.
— О чем это вы? — очень натурально удивился он.
— Почему не обратились ко мне обычным, стандартным образом? По рекомендации, как все. Почему устроили этот цирк?
— Мне хотелось посмотреть на вас, — он пожал плечами, — познакомиться поближе. Чтобы в непривычной обстановке. Это помогает.
— Познакомились?
— Да. Потому что у меня были сомнения. Годитесь ли вы для этой работы.
— А теперь сомнений нет?
Он вздохнул:
— Я ведь все про вас знаю, Семен Александрович. Навел справки. Пробил по своим каналам. Никаких высших литературных курсов в Москве вы не кончали, сценариев для любимого народом сериала “Не родись красивой” не писали, хотя ваши клиенты почему-то так думают. А были вы в это время совсем в другом месте… Но, знаете, все это выяснить было трудновато. Ни один из тех, кто пользовался вашими услугами, о вас ничего не хотел говорить. Ни один.
Я услышал тихое шуршание, топот сотен маленьких ножек… Опять дождь?
— А как вы вообще на меня вышли? Откуда узнали?
— Случайно. Одна женщина рассказала. Ее муж что-то читал и спрятал, как только она вошла. Она думала, это что-то, ну, какое-то особенно жесткое порно.
Одна женщина. Понятно. Наверняка любовница. Иначе бы не рассказала.
Я на всякий случай сказал:
— Я с порнографией не работаю. Только с эротикой. Иногда.
— Я понял. Кстати, что такое бээсдээм?
— Бэдээсэм? Садо-мазо. Всякие игры. Такого рода. По обоюдному согласию. Только… Я никогда не пишу только эротику. Как составляющую сюжета — да.
Ну вот, например, он только что разделался со злодеем, который хотел уничтожить мир. Входит в секретную комнату — из кабинета злодея, там такая дубовая стенная панель, и вот она отъезжает в сторону. И он видит, его бывшая возлюбленная, прекрасная шпионка, которая его предала, рыжеволосая красавица, стоит, прикованная к стене. Он, конечно, подходит и дает ей пощечину. Она плачет и говорит, что ее шантажировали, угрожали. И он обнимает ее и чувствует, что теряет над собой контроль. И вот, значит, руки у нее в кандалах, и она, значит, вот так стоит, и тогда…
Или наоборот, он прикован к пыточному креслу. Красивая женщина, вся в черной коже, она принадлежит к секретной фашистской организации, которая хочет погубить мир. И она берет ланцет и проводит ему по груди, вспарывая гидрокостюм, в котором он проник в секретное злодейское убежище. Эластичная ткань расползается, открывая его мускулистую грудь… и красная полоса, которую оставил ланцет, набухает каплями крови. И тут она…