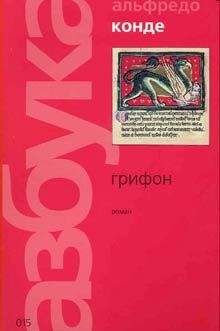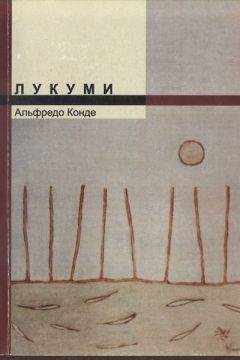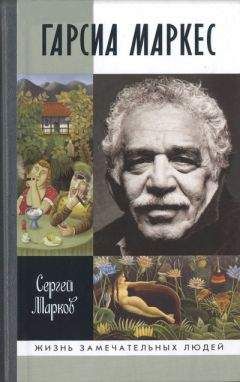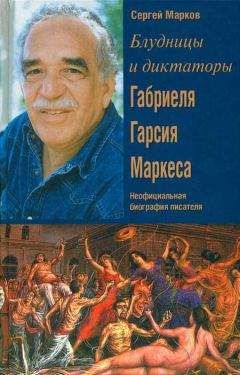Незадолго до того, как зажгли факелы и лампады, освещавшие соборное помещение, одному из самых молодых и, возможно, простодушных священников было велено подойти к Кортиселе и заговорить с вновь прибывшим.
— Аве Мария Пречистая, — обратился он к Посланцу лишь для того, чтобы убедиться, что тот его слышит.
Посетитель повернул голову и не очень уверенно произнес:
— Аве…
Итак, они уже здесь. Он выиграл первый бой.
— Может, чего-нибудь поедите?
— Да, ты прав, надо поесть.
И, медленным заученным движением поднимаясь с колен, он добавил:
— Но прежде мне хотелось бы исповедаться.
Молоденький и на первый взгляд наивный священник был удивлен и задумался; придя в себя, он предложил гостю сначала отвести его куда-нибудь поужинать, а потом уже они позаботятся о здравии его духа. Так и сделали. Они вдвоем вышли из Кортиселы и вдвоем покинули собор. Остальные члены капитула, находившиеся в ризнице и не предполагавшие, что затянувшаяся молитва будет прервана столь неожиданным образом, молча последовали за ними, соблюдая известное расстояние. Они тоже были удивлены.
Недалеко от площади Тоураль находилась харчевня, куда вошли Посланец с каноником; они сели за длинный стол, белый от постоянного мытья грубым мылом и щелоком, подальше от дверей, поближе к очагу, в котором пылал веселый огонь, защищавший от холода.
Во время молитвенного бдения у Посланца было достаточно времени, чтобы вспомнить некоторые подробности пребывания в этих местах своего предшественника, инквизитора Перо Карлоса, сохранившиеся в многочисленных донесениях, которые тот посылал не только в Святую Инквизицию, но и в Королевскую Аудиенцию. «Что до здешнего люда, то обыкновенно среди знатных людей, как мирских, так и духовного звания, Инквизитор порицается, а священники этой церкви, равно как и монахи, порицают друг друга и порицают посланцев Королевской Аудиенции…» — писал Перо Карлос.
За ужином в обществе молодого каноника, который до этого, возможно, также добровольно обрекал себя на пост, гость постепенно высказал все, что созрело у него в голове во время долгой коленопреклоненной молитвы. «Я доверенное лицо, — подтвердил он ему, — и прибыл сюда с поручением». Священник кивнул, и тогда Посланец торжественно обмакнул краюшку хлеба в дымящуюся брюквенную похлебку, обильные жирные блестки на поверхности которой предвещали трудное пищеварение, долгое, как дождливые зимы в этом краю. Позже, когда вино вернуло былой цвет лицам сотрапезников, Посланец подверг трезвой критике деятельность своего предшественника и вновь настоятельно попросил дать ему возможность исповедаться не позднее утра следующего дня. На том и порешили. Член капитула попытался было пригласить гостя переночевать у него, но тот предпочел остаться на постоялом дворе. О кобыле уже позаботились, он устал, к тому же идет дождь: о его жилье они поговорят завтра.
Посланец пошел спать, а молодой священник бегом бросился проверить, все ли в порядке с лошадью, а потом одним махом долетел до дворца Шельмиреса. Он знал, что там происходит собрание, но, прежде чем идти наверх, остановился погреться у огня, пылавшего в очаге на кухне, как раз под просторным залом в романском стиле, где были сейчас священники. Он поднялся в зал, пересек его и, войдя в одну из оконных ниш, склонился в поклоне перед Магистром и Деканом, которые беседовали, сидя на каменной скамье; между ними стояла жаровня, дарившая им не только тепло, но и чуть живой красноватый свет, едва освещавший угли. Полы сутаны Декана лежали у него на коленях, а плечи Магистра, человека худого и изможденного, укутывала шаль; оба были в шапках и перчатках.
— Говори, — приказал Декан.
Священник потер руки и сообщил:
— Не думаю, что он будет слишком вмешиваться в наши дела. Завтра поутру он желает исповедаться.
После чего они продолжили беседу, уже втроем, до глубокой ночи.
На следующее утро все еще шел дождь. Посланец поднялся чуть свет, умыл лицо, нервно растирая его ладонями, и отказался от чашки парного молока с накрошенным в него хлебом, которую предложила ему, когда он спустился вниз, одна из служанок; то ли ему не понравился темный сахар, осыпавший кусочки хлеба, то ли молоко было не процежено — так или иначе, он не принял еду, сославшись на то, что собирается причаститься. Затем он расплатился за ночлег, вытащив из кармана четыре мараведи, показавшиеся ему грабительской платой за оказанные услуги.
Прежде чем идти в собор, Посланец зашел на конюшню Приюта Пилигримов проведать свою лошадь; с нее так и не сняли сбрую, и он тоже не стал этого делать. Он потрепал кобылу по загривку и поговорил с ней спокойно и ласково; потом извлек из потайных мест, известных только ему, тетради и документы, съестные припасы, письма и кое-какие мелкие деньги. Он оставил остальные пожитки в переметной суме на крупе лошади и вышел на обширный двор, отделявший Приют от величественной базилики, улыбаясь про себя тому, как скромно и незаметно он держится, как ловко ему удалось избежать торжественного приема и умолчать об истинных целях своей миссии.
Войдя в собор, он спросил, где находится исповедальня Декана, и решительным шагом направился, куда ему указали. «Я не собираюсь докучать вам, — сказал он исповеднику, отдав полный отчет о грехах, совершенных во время путешествия, — я знаю о ваших трудностях, мне известно, в каком вы бедственном положении, и я надеюсь быстро во всем разобраться; я хочу вам помочь». Декан самодовольно улыбался простоте Посланца, и насмешливая складка сохранялась в уголках его губ до тех пор, пока до него вдруг не дошло, что вся беседа ведется на местном наречии, и притом так правильно, так чисто и так естественно, что вначале он даже не обратил на это внимания. «Кто ты? — вопросил он коленопреклоненного гостя. — Кто ты, пришелец, говорящий по-нашему?» — «Об этом должно знать только Его Преосвященству», — ответил гость; и в голове старого и мудрого Декана, выслушавшего исповедь, возникло одно имя.
Как только они поднялись с колен после исповеди, Декан позвал Лоуренсо Педрейру, молодого каноника, который накануне сопровождал вновь прибывшего, и посоветовал ему — но так, чтобы не оставалось никаких сомнений в том, что совет должен быть неукоснительно выполнен, — принять Посланца у себя дома, позаботиться о нем как подобает, присмотреть за его лошадью и быть готовым стать ему доверенным лицом и другом. Посланец будет жить рядом с Сан-Мартиньо.
— У него печальное лицо, которое располагает к откровенности, — сказал каноник.
Старый и, может быть, мудрый Декан ответил:
— Не очень-то ему доверяй, как бы не оказалось, что он хитрит… Внимательно понаблюдай за ним и будь осторожен.
Пока Посланец устраивался, дождь в Сантьяго все лил и лил.
Возвращение в Экс заняло довольно много времени. Пока не выехали на главную автостраду — а они уже было решили совсем не выбираться на нее, им нравилось ехать по боковым дорогам, обсаженным деревьями, безмолвным в предрассветный час, — они почти не проронили ни слова. Машину вела испанофилка, а он сидел рядом с ней, слегка развернувшись назад, чтобы видеть теснившихся на заднем сиденье студенток.
На главной автостраде они принялись петь. Вначале еле слышно, подпевая мелодии «Мильядоуро», которую преподавательница поставила на автомобильный магнитофон. Они пели все громче и громче, пока все, эти «рирарирарирари-ра, рира-ри-ра-рира-ри-рари» не взорвались ликующим неистовым воплем, галисийским «атурушо», оглушившим и ошеломившим девушек и потребовавшим от преподавателей пуститься в пространные объяснения по поводу истоков, живучести и смысла этого крика, способного выражать любовь и ужас, вызов и схватку, мольбу и отклик; недаром впечатление от него было столь сильным.
И вдруг что-то всколыхнулось в его памяти: картины народных гуляний, давно уже канувших в прошлое внезапно ожили перед ним по милости неукротимого «атурушо»: пляски в церковном дворе, у самых могильных плит, под огромной черешней; каштановая роща поодаль и клич «атурушо», вспыхивающий в ночи то тут то там, словно молния: «А это парни из Валонго», «А где же „атурушо“ ребят из Кароя?», «А Шан Шокас, видать, хворает». Теперь не звучит уже галисийское «атурушо». Те, кому в жизни повезло побольше, возвращаются домой на шикарных автомобилях, кому поменьше — довольствуются трактором, а на смену проселочным дорогам пришли автострады. И никому уже не встретится по пути «святая компания» привидений, изгнанных электрическим светом и фонариками на батарейках; ушли в небытие и всепоглощающее одиночество ночи, и тревога темных дорог, а теперешние волки — всего лишь одичавшие полицейские собаки, рыскающие по лесистым холмам. Но ничего этого он не отважится рассказать своим спутницам — они не поймут, они даже представить себе такого не смогут. Да, теперь одновременно существуют и автострады, и табуны диких лошадей, и «атурушо», ставшее достоянием хоровых ансамблей, и новейшие лекарства в сумках обитателей третьего мира. Он немного помолчал, потом снова запел вместе с девушками.