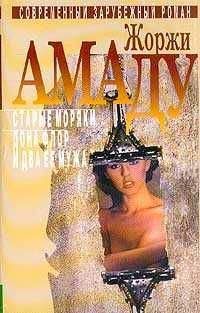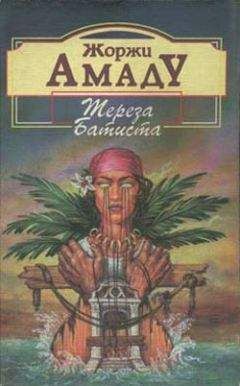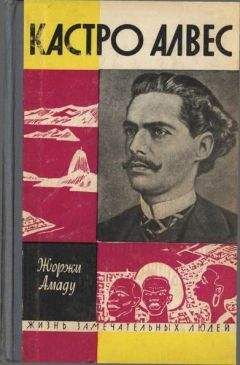Капитан взял Дороти за руку и толкнул дверь в комнату служанки. Мулатка Балбина, ворча, подвинулась на кровати, давая ему место.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Где наш рассказчик ведет себя не совсем благородно
Кто в этом мире может уберечься от завистников?
Чем выше стоит человек в мнении своих сограждан, чем важнее и почетнее пост, который он занимает, тем быстрее он становится мишенью для злобной зависти: на него изливаются целые потоки грязи, океаны клеветы. Ничья репутация, даже самая идеальная, не останется чистой, ничья слава, даже самая сияющая, не избегнет попыток омрачить ее.
За примерами ходить недалеко. Как известно, достопочтенный сеньор Алберто Сикейра со всеми своими титулами, знаниями, состоянием и накрахмаленной манишкой поселился среди нас. Он оказал Перипери честь, ведь ему ничего не стоило бы купить себе дом в каком-нибудь фешенебельном месте, в Питуба или Итапоа, например, где живут и отдыхают самые знатные персоны. А он предпочел наше предместье, где лишь немногие способны понять его взгляды, его возвышенные рассуждения, его речи, изобилующие такими словами, какие встретишь только в словаре… Нам всем следовало бы гордиться этим предпочтением, постоянно испытывать чувство благодарности к сеньору судье.
А что делается вместо этого? О судье болтают черт знает что. Никто не обращает внимания на его статьи, опубликованные в журналах, на его блестящие произведения. Мне довелось видеть немало номеров журнала «Ревиста дос Трибунаис» (в кожаном переплете), где юридические исследования, свидетельствующие об эрудиции достопочтенного судьи, занимают множество страниц. Судить по существу о его взглядах и о высказанных им мнениях я не могу и не смею, я не настолько самонадеян ведь половина его работ напечатана по-латыни, а половина — курсивом. Но один из специалистов, комментируя в упомянутом журнале работы нашего судьи, называет его «светилом юридической науки».
Так вот, даже печатные похвалы авторитетных людей, опубликованные в журналах Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло, не остановили людей, подобных Телемако Дореа, жалкому отставному чиновнику муниципальной префектуры. Этот тип вообразил о себе бог знает что оттого только, что публикует иногда скверные стишки в приложениях к баиянским газетам и осмеливается заявлять, что достопочтенный судья — «воплощение непроходимой тупости, чванливой вздорности» (это его подлинные слова) «и величайшее ничтожество, когда-либо встречавшееся среди юристов Баии».
Вот до чего могут довести злоба и зависть! И хуже всего то, что такие люди, как Телемако Дореа, находят себе слушателей, которые их поддерживают и подливают масла в огонь.
Сплетники лезут в личную жизнь сеньора Сикейры, копаются в его прошлом и настоящем. Мало того, что они отрицают его очевидную, всеми признанную компетентность в юриспруденции, они подвергают сомнению неподкупность судьи. «Продажен, — утверждают они, — в высшей степени продажен». И рассказывают туманную историю о двух прямо противоположных решениях по одному и тому же делу: первое якобы отвергало претензии одной нашей крупной экспортной фирмы, второе же, вынесенное позднее, удовлетворяло требования могущественных магнатов. Я не вижу в этом ничего зазорного, ведь приобщение к делу новых данных, как объясняет почтенный судья, изменило в корне весь его смысл. Но некоторые людишки в Перипери говорят, что эти «новые данные» представляли собой кругленькую сумму в пятьсот конто, то есть в полмиллиона крузейро, которые были приобщены к сбережениям сеньора Сикейры, а не к делу.
Утверждают, будто состояние достопочтенного судьи ведет свое происхождение именно отсюда, а вовсе не унаследовано от родителей. Наследство же якобы получила супруга судьи, дона Эрнестина, на которой он именно по этой причине и женился; уже в молодости она отличалась необычайной полнотой, за что и была прозвана Цеппелином.
Не ограничившись изучением прошлого судьи, наши сплетники стали рыться и в настоящем. Они извлекли на поругание нежную Дондоку. Разве есть что-нибудь преступное в том, что великий человек нашел у нее приют для своих высоких размышлений? В тихие часы сиесты, пока дона Эрнестина храпит, почтенный судья предается сладким грезам любви. Он оказал мне честь своим доверием и признался, что питает к Дондоке теплые, почти отеческие чувства. Она хорошая девушка; бедняжку, обманутую и покинутую, ожидала бы страшная участь, если бы не дружеская рука судьи, поддержавшего и защитившего ее. А кроме того, он вполне заслужил право на небольшие отступления от строгой морали в возмещение своего горестного и тяжкого служения супружескому долгу.
Последнему легко поверить, если учесть, что дона Эрнестина весит сто двадцать килограммов… Достопочтенному судье, наверно, действительно горестно и тяжко.
Я сдержал улыбку: не следует шутить такими вещами, ведь дело касается лиц, достойных всяческого уважения, — сеньора Сикейры и его супруги, тучной, но весьма почтенной особы. А кроме того, я испытываю к судье чувство благодарности: если бы не его щедрость и не его маленький грешок, мне не пришлось бы пользоваться милостями прекрасной, пламенной мулатки, носить домашние туфли судьи и поедать купленный им шоколад. Но в человеческой натуре в самом деле много подлости.
Ведь, по совести, я не имею права ругать тех типов, что постоянно грубо издеваются над мудростью достопочтенного судьи и чернят его имя, раз я сам, стольким ему обязанный, смеюсь и подшучиваю над его маленькими слабостями (и так же ведет себя опекаемая им Дондока). Чего же тогда требовать от других уважения и справедливости? Но все равно, этот самоуверенный и самодовольный Телемако Дореа стоит у меня поперек горла. Я показал ему отрывки из истории капитана, плод терпеливых поисков и упорных трудов, а этот рифмоплет принялся критиковать: вялый, туманный стиль, затянутое, рыхлое повествование, много общих мест, персонажи лишены внутренней жизни…
А фраза, фигурирующая в начале этой главы, которой я, откровенно говоря, горжусь — «на него изливаются целые потоки грязи, океаны клеветы», — вызвала у Телемако Дореа сардоническую улыбку. Он неспособен ощутить всю силу и красоту этого выражения.
Между прочим, моя фраза заслужила высокую похвалу судьи, человека известного и просвещенного, который привык к прекрасному стилю таких авторов, как Руй Барбоза и Александр Дюма. Дондока тоже, когда я больше для себя, чем для нее, прочел один отрывок вслух, захлопала в ладоши и воскликнула: «Чудесно!» А у нее нет недостатка в чувствительности, это-то я знаю. Таким образом, поддержанный, с одной стороны, интеллектуальной элитой в лице судьи, а с другой стороны — ободряемый гласом народа, то есть нежным голоском Дондоки, я полностью презрел дурацкий смех Телемако Дореа и решил впредь избегать его неприятного общества. Помимо всего прочего, он еще и вымогатель — до сих пор не отдал сто восемьдесят крузейро, которые взял у меня в долг прошлым летом, чтобы купить рыбы. «Вечером отдам», — сказал он тогда, и так до сего дня…
Я возвращаюсь к истории капитана. Когда я сочинял строки этой главы о зависти, я вовсе не думал ни о судье, ни о его почтенной супруге, ни о Дондоке, ни об этом шуте Дореа. Судья был введен в рассказ только в качестве примера, да так и застрял, как надоедливый гость, потерявший представление о времени.
К тому же я, кажется, немного увлекся спором с негодяем Дореа и описанием прелестей Дондоки. И чуть не забыл о своем обещании — выяснить запутанную историю капитана, чтобы чистая правда о его приключениях засияла во всей своей наготе.
Итак, как видите, никто не может спастись от завистников. Мог ли уберечься от них капитан Васко Москозо де Араган, который, едва прожив в Перипери месяц, стал самым видным лицом предместья? Имя капитана не сходило с уст, он сделался местной достопримечательностью, его суждениями по самым различным вопросам интересовались все, их ценили, на них ссылались. «Капитан сказал…», «Спросите капитана…», «Капитан мне обещал…» — только и слышалось со всех сторон. Когда разгорался спор, капитан вынимал изо рта пенковую трубку и изрекал свой приговор — его слово всегда было последним, никто не решался ему противоречить.
Капитан и наше предместье праздновали свой медовый месяц без единой тучки на лазурном небе ровно тридцать дней. Вероятно, этот медовый месяц мог бы длиться и дольше, если бы из города, где он провел некоторое время у сына адвоката, не вернулся старый Шико Пашеко, бывший финансовый инспектор, живший в Перипери уже более десяти лет и ставший здесь своего рода властителем дум.
Я уже рассказывал о характере этого человека.
Желчный, недоверчивый, он постоянно хитрил, сплетничал и говорил колкости. Он вышел в отставку раньше, чем полагается, так как был замешан в политику и подвергся преследованиям за участие в оппозиции.