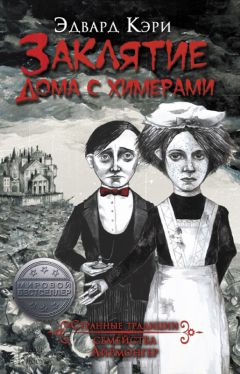Вдруг он услышал шум. Привратница отворяла дверь его тайного убежища, чтоб извлечь мусорные баки и выставить их в коридоре для нужд жильцов. Мальчик сдерживал дыхание. Как страус прячет голову под крыло, надеясь остаться незамеченным, он закрыл глаза. Потемки укрыли его, а после того, как женщина трижды возвращалась за баками, Оливье сообразил, что ничего не случится. И тогда он начал думать об улице, до которой отсюда было рукой подать, силился представить себе ее оживленной, многолюдной, и вдруг снова перед его глазами возникла галантерейная лавка с закрытыми деревянными ставнями, словно она являлась центром этот мира.
В зависимости от времени дня люди, жившие в этом квартале, выглядели по-разному. Ранним утром тут происходило великое перемещение рабочих и служащих. Они спешили, совсем еще сонные, будто ночь не только не сняла с них дневную усталость, а, наоборот, навалила новое бремя. По вечерам, когда они возвращались домой, печать трудового дня проступала на их лицах. Землистого цвета кожа у мужчин. На побледневших лицах женщин румяна и губная помада выглядели кричаще. Люди ожили, только когда на предприятиях начали практиковать «английскую неделю», которую лишь недавно ввели во Франции: уже после полудня в субботу мужчины прогуливались, заложив руки в карманы с беззаботным видом, а в воскресенье они, свежевыбритые, в просторных пиджаках с большими лацканами, в широких брюках, в яркого цвета галстуках, распевали песенки «Проплывает шаланда» или «Не стоит в жизни волноваться». На улице собирались группками, толковали о спорте, чаще всего о велосипедных гонках, о боксе и скачках, обсуждали фильмы, спорили о политике, о профсоюзных делах. Но если кто ненароком задевал пустую консервную банку, то сразу же начинался футбольный матч с «обводкой» и голами, когда громыхающая по мостовой банка летела в воображаемые ворота. А то вдруг кто-нибудь стянет чужую кепку, и начнется галдеж. Все эти люди казались слишком молодыми, чтобы заботиться о соблюдении правил приличия.
Часто здесь говорили: «Наш старый Монмартр», — хотя Монмартр был расположен выше — там, где выступали по субботам уличные певцы, ходили сутенеры в стиле Карко, а по воскресеньям сидели у мольбертов уличные живописцы, тоскуя по предвоенным сельским пейзажам, — там, а вовсе не на этих маленьких улочках, ярусами громоздившихся на склоне холма. Хоть тут было и немало стариков, но этот мир казался новым, потому новым, что он был беден, разномастен, космополитичен, а значит, готов к завоеваниям. Этим людям нечего было терять. Никакие удары судьбы — ни безработица, ни забастовки, ни увольнения — не могли истребить надежду, здоровый оптимизм, возникавший из самого воздуха улицы, словно песенка. В летние вечера пожилые усаживались перед дверьми, рядом с привратницами. Они тащили с собой стулья, как правило, самые лучшие в квартире: здесь можно было узреть и плетеные сиденья, обычно сопутствующие буфетам в стиле Генриха II, и венские стулья, и складные, и скамеечку швейки, и даже кресло. Мужчины, в расстегнутых жилетах, с засученными рукавами, садились верхом на стул, облокотившись о спинку, и покуривали свои трубочки. Порой какая-нибудь женщина неторопливо доедала свой суп из миски, держа ее на ладони, как это делают в деревне. Иные играли в жаке. Но чаще всего здесь собирались ради беседы, которая текла медленно и вяло, если речь шла не о мировой войне или о политике, а вот тогда уж так и сыпались имена Пьера Лаваля, недавно скончавшегося Бриана, Гитлера, Муссолини. Над всем этим витала тень новой войны, в которую почти никто не верил всерьез: мол, только сумасшедший может вовлечь свою отчизну в войну со всеми се современными средствами, самолетами, танками, газами — это было бы слишком страшно. Иногда спор обострялся, и каждый из участников, будь он из «Боевых крестов»[1] или коммунист, выставлял напоказ свои гражданские заслуги; любая фраза начиналась со слов: «Что касается меня, мсье, то я…» Разные чужаки, иностранцы слушали все это весьма скептически, но избегали чересчур смелых высказываний, так как первый попавшийся националист мог бы бросить им в лицо: «Если вам не правится Франция, то, собственно, почему…» Из окон, в особенности из тех, что на нижних этажах, доносились приглушенные звуки радио, которое то и дело нуждалось в настройке.
Огромные, причудливой формы приемники наперебой передавали различные станции: то «Пари-Эйфелеву башню», то «Радио-Витус», то «Пост Паризьен», но к передачам прислушивались мало. Люди вышли па улицу, чтоб «подышать прохладой».
Атмосфера здесь была веселой и оживленной. Дети, подражая любителям ходьбы на приз «Боль дор де ля марш»[2] — маршрут состязания идет мимо церкви Сакре-Кёр, — довольствовались тем, что, как вереница утят, обходили стоящие тесно друг к другу дома, сжав кулаки на уровне груди и покачивая локтями. Группы молодежи, разделившись по возрасту, или спорили, или задирали девчонок, а то упражнялись в борьбе кэтч, как мастер Деглан, выдавали апперкоты и удары левой, совсем как Марсель Тиль или Милу Пладнер. Подростки собирались обычно в верхнем конце улицы Лаба, на ступенях полуразрушенной лестницы, примыкавшей к отрогу холма, где росла среди отбросов крапива.
Для улицы Лаба это были радостные часы. Можно было вообразить себя вдали от Парижа, в греческой деревне или в «пассажете» итальянских городов, только еще более бесцеремонной, лишенной условностей, вместо которых здесь царит зубоскальство, хорошее настроение и безалаберщина с легкой примесью пошлости, однако здоровая и естественная.
Здесь был свой особый язык, заимствующий многое у арго, но ближе, пожалуй, к народной речи, со всякими насмешливыми прозвищами, очень образный, остроумный. Молодые люди, с волосами, намазанными бриллиантином «Аржантин» или «Бекерфикс», были несколько жеманны, однако не пренебрегали выражениями, вроде «заметано», «кореш» или «пшел, болван». Уже вошло в употребление словечко «бизнес», кабачок зовут «коробочкой», комнату — «конурой», а хозяина — всегда «обезьяной». С нежностью произносят «цыпочка», с презрением — «девка». Семейные титулы берутся взаймы у латыни: «патер», «матер», едва заметную трансформацию претерпели слова «братан», «своячок», бытуют и термины деревенские: «папаня», «маманя», «дядька» и «тетка» (этот последний термин употребляется и для обозначения педераста).
Повсюду вокруг толпились оживленные компании, орали маленькие буяны, вдоль улицы плыла целая флотилия людей, а из окон жильцы созерцали это поистине театральное зрелище, не имеющее ни конца, ни антрактов.
Такой была улица в летние вечера. И такой увидел ее Оливье, когда наконец-то вышел из своего чуланчика под лестницей. Несколько минут он стоял на углу улицы Башле, совсем один, прислонясь спиной к газовому фонарю, потом засунул руки в карманы и попытался принять непринужденный вид. На левый рукав его свитера Элоди пришила траурную повязку, несколько широкую для детской руки. Он понимал, что раз он отмечен этим печальным символом, то не может примкнуть к игре своих сверстников. Посему он направился к старикам, пристроился между окном Альбертины и запертой галантерейной лавкой, заложил руки за спину и притворился, что его интересует беседа Альбертины с элегантной и манерной мадам Папа (так сократили ее слишком длинную греческую фамилию), с этой старой дамой, никогда не выходившей из дома без шляпы, и с Люсьеном Заикой, радиолюбителем и мастером по ремонту приемников, а также и с Гастуне, прозванным так из-за сходства с президентом Гастоном Думергом и еще потому, что затасканные патриотические изречения, бесконечно повторяемые этим бывшим воякой, были сродни трехцветной идее Республики.