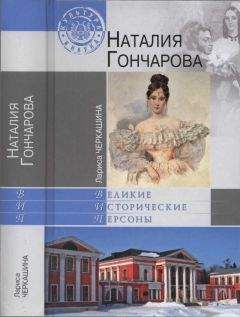Про любовные их отношения, по Сашенькиному настоянию, не знает никто. Объяснения, простодушно изобретаемые для себя Женечкой, — почему об этом нельзя знать даже самым близким и преданным друзьям, а самых близких и преданных друзей у Женечки полно, — эти объяснения неверны. Никто ничего не знает потому, что если и тайны не останется, то в чем смысл этого унижения и компромисса? Для Сашеньки считать Женечку и все, с Женечкой связанное, хоть и временным, но важным эпизодом жизни было бы чересчур глупо.
И, начиная с этого времени, у Сашеньки случаются не то чтобы запои — это было бы понятно на общем фоне — а какие-то ситуации в странных и совсем уж пропащих компаниях. Сашеньку приходится спасать и вытаскивать. Женечке ясно, в чем причина всего: Сашенькины таланты не находят признания и применения. Хотя и не совсем понятно, в какой именно области эти таланты, но они несомненны и исключительны.
Потом возникает на некоторое время интерес к буддизму, в котором хороши вовсе не переселение душ и отказ от желаний, — Сашеньке известно по опыту, что полное отсутствие желаний ни к какой нирване не ведет, только все к той же скуке, — хороши в буддизме бесконечные повторы, гудения, мантры, от которых транс и туман в голове, как когда-то от гамм. Это скука, возведенная, по крайней мере, уже в другую степень. Но и странные компании, и буддизм приходят и уходят, а остается Женечка со своей непрошенной преданностью и непереносимой активностью жизни. И Женечке всегда, всегда хорошо. Эта жизнерадостность, которая когда-то казалась загадочной, теперь уже понятна Сашеньке: большинство людей никогда не натыкаются на стены камеры и живут в иллюзии неограниченной свободы.
Между тем в мире, где ничего и никогда не изменяется, в этом окружающем мире постоянного февраля, начинают происходить необычайные и непредвиденные изменения. В какой-то момент выясняется, что возможна поездка. Вернее, поездка почти невозможна; но не совершенно невозможна, как в прежние времена.
Бабушка советует конфеты, конфеты в красивых коробках, дарить секретаршам, от них все зависит. У Женечки и по конфетной части оказываются какие-то знания и знакомства, и коробки удается раздобыть. Но, в конце концов, может быть, действует другое. Возможно, что эти парки, прядущие нити судеб, — всемогущие секретарши — тоже чувствуют Сашенькину странную ауру. Вроде бы именно Сашеньке и полагается такая фантастическая поездка. Сашенька прощается с бабушкой, с Женечкой, и они уверены, что увидятся через две недели.
Они всегда в чем-нибудь уверены.
Ночь проходит в самолете, как когда-то в ангине и кори. Равномерный гул, непонятно — внутри, в голове или снаружи; неполная темнота, лихорадка. И еще вначале кажется, что надо будет что-то решать. Но когда из глухой черной ночи самолет начинает идти на снижение, внизу, под самолетом, начинает разворачиваться, и вздыбливаться, и нырять огромное сверкающее пространство — как исправленная карта звездного неба, карта новой, невозможной, невероятной галактики, геометрически расчерченной пересекающимися и разбегающимися шеренгами, цепями и кругами мириад звезд, совершенно затмивших слабо рассеянное мерцание старых звезд наверху.
И никакого решения принимать не надо. Эта светящаяся гигантская воронка, затягивающая в себя самолет, это и есть будущее. Давно предугаданное, знакомое зазеркалье.
Героический период активных действий, первый и последний в Сашенькиной жизни, продолжается около года. Надо вставать в пять утра и ехать в самый конец города, где прежде была гавань, где теперь судоходство сменилось судопроизводством, но чайки все еще летают и кричат на старом морском языке; кружатся и кричат между шпилями судебных зданий, как прежде между мачтами кораблей. Надо стоять в бесконечно длинных, крикливых очередях среди беженцев всех племен и народов; они тоже базарят и кричат, как чайки, на множестве непонятных и гортанных языков; тоже тоскливо и потерянно. Они едят дешевую уличную еду, пахнет горелым жиром. Это запах из учебников истории, это бароны-грабители жарят на вертелах вепрей. Отстояв в очередях, Сашенька бродит по улицам, где все продается, продается, продается; в крошечных лавочках можно найти подержанные летающие тарелки, засушенные человеческие головы. Город этот безусловно настоящий, не из предисловия, а из первой главы. И Сашеньке кажется, что настоящая жизнь начнется вот-вот, почти уже началась.
Потом все вдруг останавливается.
Здесь тоже есть законы природы; более того, если в прежней жизни они иногда все-таки нарушались, хотя бы по бестолковости, то здесь они незыблемы и пользуются всеобщим уважением. Правил оказывается гораздо больше, чем раньше. Даже отклоняться от правил полагается по каким-то своим правилам. Правила здесь другие, не те, что прежде, но святая вера в эти правила точно такая же. Все уверены, что только такие правила и могут существовать, что они абсолютны, а Сашеньке все вспоминаются другие и прямо противоположные абсолютные правила, и от этого тошно вдвойне. На всех увиденных Сашенькой холодильниках висят расписания дел на месяц вперед. Как будто время, расписанное по секундам, перестает нудно двигаться все в одном и том же направлении, не прерываясь, тупо и равномерно пережевывая важное и неважное. Люди здесь все время говорят друг другу, бросают на ходу, между делом: «Я тебя люблю!» — «И я тебя!». Как будто значение этого слова — «люблю» — всем заведомо понятно.
Одно преимущество — здесь очень легко спрятаться, никто тебя особенно не разыскивает. И никакой определенности, принадлежности, ни к классу, ни к кругу, ни к слою населения; никто не опознает тебя с первого взгляда, никому о тебе ничего заведомо не известно. Никто не ловит, не связывает, не ограничивает мнениями о тебе, надеждами на тебя, навязчивой любовью. Главное достижение Сашеньки в этой новой жизни — пустота. Реальности — людей, вещей, постоянной работы, средств к существованию — почти нет. В этой пустоте, паузе, можно сидеть и ждать. Продолжаться эта ситуация не может, она должна измениться.
Сашенька ходит по городу. Это такой город, что если ходить долго, безостановочно, то время исчезает, и забываешь, кто ты и что с тобой было раньше; и кажется, что можно исчезнуть за каждым углом, что новая жизнь может начаться за следующим поворотом.
В отличие от того города, в котором когда-то Сашеньке случилось родиться — разлапистого, расхлябанного, приземисто-квадратного, который обволакивал, удерживал, — этот город никого не удерживает, никому не навязывается в друзья и родственники, никого не считает своим.
Город узкий. Длинный, как нож. Каждая улица уходит в узкую щель неба, как в светящуюся щель приоткрытой двери, каждая улица уходит в бесконечность, к точке схода, к концу перспективы; густота материи уже достигла здесь предела насыщенности и дробится, рассыпается, кристаллизуется; город отражается сам в себе. Город выстраивается из бестелесных прямоугольников расколотого отраженного неба. Закат угасает на востоке, восход вспыхивает на западе. Все здесь гости, все чересчур старательно одеты и чересчур оживлены, и шум толпы, как шум собирающихся гостей в начале праздника, шум нервного, возбужденного ожидания.
Сашеньке снится иногда, что появляется Женечка и привозит с собой сундук со старой одеждой, пропахшей кислыми окурками, плохо отстиранным потом, сладкими бабушкиными духами. Одежду эту, из свалявшейся шерсти свитер, Женечка натягивает на Сашеньку, заставляет надевать через голову. Сашенька путается в рукавах, задыхается в узком воротнике — по лицу, по рту ползет свалявшаяся тоскливая шерсть, а бабушка говорит: «Надень, надень, тут у вас такие сквозняки, в этом городе так дует». Конечно, это бабушка приехала, привезла сундук. Сашенька задыхается в отвратительном узком воротнике — в дверь звонят. Сашенька, полупроснувшись, думает: пожар, полиция, религиозные миссионеры? И глядит в глазок двери, ожидая мормонов или свидетелей Иеговы, жаждущих спасти, носителей благой вести, доброжелательные, темные, коричневые лица. Но лицо там — светлое, белое, то есть золотое, с золотыми волосами, с золотой кожей, с детской увлеченной, встревоженной улыбкой, все еще ожидающей от Сашеньки чудес, театра, канатоходцев. Это Женечка, совершенно без всякого чемодана, в свежей и старательной одежде.
Почти с порога — и даже Сашенька проявляет неожиданный почти что восторг — после того как они поднимаются с помоечного матраса, Женечка начинает все кругом переставлять, мыть и рассказывать, рассказывать, сообщая ненужные новости из прошлого.
Женечке пришлось вырваться из своего клубка родственников, друзей, коллег, среди которых было всегда так уютно и привычно, от которых и в голову не приходило чем-то отличаться, а наоборот, любая двоюродная сестра, любой соученик казался продолжением собственной личности. Произошло это не только потому, что без Сашеньки жить было немыслимо, но важна была и любовь к родителям, необходимость их содержать. Родители, реалистически глядя на жизнь, всегда откладывали на черный день, но все это пропало, когда жизнь вдруг вздумала совершенно нереалистически измениться. И вот Женечка, в результате всей этой любви, живет тут по контракту, в этом чужом, неродном, сумасшедшем каком-то городе. И у Женечки началась уже не только блестящая карьера, но и благосостояние началось, включая покупку дома с рассрочкой на тридцать лет; надо думать о будущем.