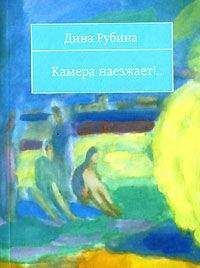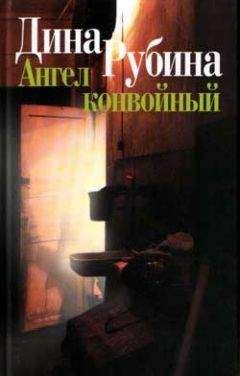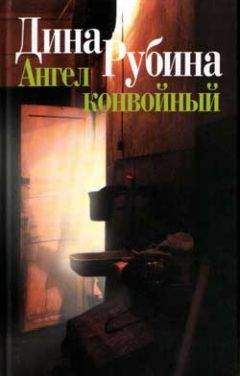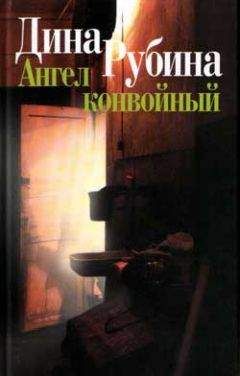– Боюсь, никто, кроме Маратика, не даст образ... – вздыхала Анжелла.
– Только Маратик! – отзывалась Фаня Моисеевна.
– Да, но как его уговорить! – восклицала Анжелла с отчаянием.
Она любила своего ребенка любовью, испепеляющей всякие разумные чувства, исключающей нормальные родственные отношения. Из их жизни, казалось, выпал важнейший эмоциональный спектр – отношения на равных. Мать либо заискивала перед сыном, либо наскакивала на него кошкой со вздыбленной шерстью, и тогда они оскорбляли друг друга безудержно, исступленно.
Разумеется, он был смыслом ее существования.
Разумеется, все линии ее жизни сходились в этой истеричной любви.
Разумеется, моя незадачливая повесть была выбрана ею именно потому, что пришло время воплотить ее божка на экране...
Когда несколько лет спустя, уже в Москве, меня догнала весть о гибели Маратика в автомобильной катастрофе (ах, он всегда без разрешения брал отцовскую машину, и бессильная мать всегда истерично пыталась препятствовать этому!), я даже зажмурилась от боли и трусости, не в силах и на секунду представить себе лицо этой женщины.
Из Москвы Анжелла выписала для будущего фильма оператора и художника.
Хлыщеватые, оба какие-то подростковатые, друг к другу они обращались: Стасик и Вячик – и нежнейшим образом дружили семьями лет уже двадцать.
У одного были жена и сын, у другого – жена и дочь, и оба о женах друг друга как-то перекрестно упоминали ласкательно: «Танюша», «Оленька»...
Они постоянно менялись заграничными панамками, курточками и маечками. Я не удивилась бы, если б узнала, что эти ребята живут в одном номере и спят валетом – это вполне бы вписывалось в их сдвоенный образ... Да если б и не валетом – тоже не удивилась бы.
Анжелла очень гордилась тем, что ей удалось залучить в Ташкент профессионалов такого класса. Я, правда, ни о том ни о другом ничего не слышала, но Анжелла на это справедливо, в общем, заметила, что я ни о ком не слышала, об Алле Пугачевой, вероятно, тоже...
– Что, скажешь, ты не видела классную ленту «Беларусьфильма» «Связной умирает стоя»?! – брезгливо спросила Анжелла.
Мне пришлось сознаться, что не видела.
– Ты что – того? – с интересом спросила она. – А «Не подкачай, Зульфира!» – студии «Туркменфильм», в главной роли Меджиба Кетманбаева?.. А чего ты вообще в своей жизни видела? – после уничтожительной паузы спросила она.
– Так, по мелочам, – сказала я, – Феллини-меллини... Чаплин-маплин...
– Снобиха! – отрезала она. (Когда она отвлеклась, я вытянула из сумки записную книжку и вороватым движением вписала это дивное слово.)
Выяснилось, что Стасик, оператор, как раз снимал фильм «Связной умирает стоя», а художник, Вячик, как раз работал в фильме «Не подкачай, Зульфира!».
По случаю «нашего полку прибыло» Анжелла закатила у себя грандиозный плов.
На кухне в фартуке колдовал над большим казаном Мирза: мешал шумовкой лук и морковь, засыпал рис, добавлял специи. На его худощавом лице с мягкой покорно-женственной линией рта было такое выражение, какое бывает у пожилой умной домработницы, лет тридцать живущей в семье и всю непривлекательную подноготную этой семьи знающей.
Он был еще не сильно пьян, даже не качался, и мы с ним поболтали, пока он возился с пловом. Он рассказал о величайшем открытии, сделанном учеными буквально на днях, – что-то там с полупроводниками, – бедняга, он не знал, что рассказывать мне подобные вещи – все равно что давать уроки эстетики дождевому червю. Но я слушала его с заинтересованным видом, кивая, делая участливо-изумленное лицо. Не то чтобы я лицемерила. Просто мне доставляло безотчетное удовольствие следить за движениями его сноровистых умных рук и слушать его голос – он говорил по-русски правильно, пожалуй слишком правильно, с лекционными интонациями.
Вообще здесь он был единственно значительным и, уж без сомнения, единственно приятным человеком.
За столом ко мне подсел оператор, Стасик, и, дыша коньяком, проговорил доверительно и игриво:
– Я просмотрел ваш сценарий... Там еще есть куда копать, есть!
Я кивнула в сторону огромного блюда со струящейся желто-маслянистой горой плова, в которой, как лопата в свежем могильном холмике, стояла большая ложка, и так же доверительно сказала:
– Копайте здесь. Он захохотал.
– Нет – правда, там еще уйма работы. Надо жестче сбить сюжет. Не бойтесь жесткости, не жалейте героя.
– Чтоб связной умирал стоя? – кротко уточнила я.
А через полчаса меня отыскал непотребно уже пьяный Вячик. Он говорил мне «ты», боролся со словом «пространство» и, не в силах совладать с этим трудным словом, бросал начатое, как жонглер, упустивший одну из восьми кеглей, и начинал номер сначала.
– А как ты мыслишь художссно... посра... просра... просраста фильма? – серьезно допытывался он, зажав меня в узком пространстве между сервировочным столиком и торшером, держа в правой руке свою рюмку, а левой пытаясь всучить мне другую. – У тебя там в ссы... ссынарии... я просра... поср... простарства не вижу...
Целыми днями Анжелла с «мальчиками» – Стасиком, Вячиком и директором фильма Рауфом – «искали натуру». Они разъезжали на узбекфильмовском «рафике» по жарким пригородам Ташкента, колесили по колхозным угодьям, по узким улочкам кишлаков.
Я не могла взять в толк – зачем забираться так далеко от города, создавая массу сложностей для съемок фильма, в то время как в самом Ташкенте, в старом городе, зайди в любой двор и снимай самую что ни на есть национальную задушевную драму – хоть «Али-бабу», хоть «Хамзу», хоть и нашу криминальную белиберду.
Помню, я даже задала этот вопрос директору фильма Рауфу.
– Кабанчик, – сказал он мне проникновенно (он со всеми разговаривал проникновенным голосом и всех, включая директора киностудии, называл «кабанчиком», что было довольно странным для мусульманина). – Чем ты думаешь, кабанчик? Если не уедем, где я тебе командировочных возьму?
И я, балда, поняла наконец: снимая фильм в черте города, съемочная группа лишилась бы командировочных – 13 рублей в сутки на человека.
Раза два и меня брали с собой на поиски загородных объектов.
Для съемок тюремных эпизодов выбрали миленькую, как выразилась Анжелла, тюрьму, только что отремонтированную, с железными, переливающимися на солнце густо-зеленой масляной краской воротами.
Съемочная группа дружной стайкой – впереди какой-то милицейский чин, за ним щебечущая Анжелла в шортах, Стасик в кепи и с кинокамерой на плече, пьяный с утра Вячик, мы с Рауфом – прошвырнулась по коридорам пахнущего краской здания, энергично одобряя данный объект.
Нас даже впустили во внутренний – прогулочный – двор, при виде которого я оторопела и так и простояла минут пять, пока остальные что-то оживленно обсуждали.
Прогулочный двор тюрьмы представлял собой нечто среднее между декорацией к модернистскому спектаклю и одной из тех гигантских постмодернистских инсталляций, которые в западном искусстве вошли в моду лет через пять.
Это была забетонированная площадка, со всех сторон глухо окруженная бетонной высокой стеной, с рядами колючей проволоки над ней. Вдоль торцовой стены – как сцена – возвышался подиум с двумя ведущими к нему ступенями. На подиуме рядком стояли три новеньких унитаза, по-видимому установленные на днях в ходе ремонта. Они отрадно сверкали эмалью под синим майским небом, свободным – как это водится в тех краях – от тени облачка.
«Течет ре-еченька по песо-очечку, бережочки мо-оет...» – послышалось мне вдруг. Запрокинув голову, я пересчитала взглядом зарешеченные окна вверху. Нет, показалось. Щелк ассоциативной памяти.
«Ты начальничек, винтик-чайничек, отпусти до до-ому...»
– Ах, какие дивные параши! – воскликнул Вячик. – Задрапировать их, что ли! Под королевский трон! Под кресло генсека ООН!
И Стасик, вскинув камеру, принялся снимать постмодернистскую сцену с тремя унитазами...
После длительных поисков Анжелла и мальчики остановили свой выбор на районном центре Кадыргач – была такая дыра в окрестностях Ташкента. Для съемок фильма на лето сняли большой, типично сельский дом с двориком, принадлежащий, кажется, бухгалтеру колхоза, и – для постоя всей съемочной группы – верхний этаж двухэтажной районной гостиницы «Кадыргач».
Стояла жара – еще не пыльный августовский зной, а душный жар середины мая. Не знаю, какую культуру, кроме хлопка, выращивал колхоз «Кадыргач», но в местной гостинице и закрытой столовой обкома, куда нас однажды по ошибке пустили пообедать (потом опомнились и больше уже не пускали. Смутно помню очень мясные голубцы по двенадцать копеек порция, жирный плов и компот из персиков), – во всем этом благословенном пригороде произрастали, реяли, парили, зависали в плывущем облаке зноя и, кажется, охранялись обществом защиты животных зудящие сонмища мух.
Гостиница производила странное впечатление. Первый этаж – просторный, с парадным подъездом, с мраморными панелями и полом и даже двумя круглыми колоннами в холле – выглядел вполне настоящим зданием. Второй же этаж казался мне декорацией, спешно возведенной к приезду съемочной группы. Это были узкие номера по обеим сторонам безоконного и оттого вечно темного коридора, разделенные между собой тонкими перегородками.