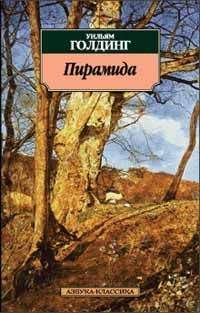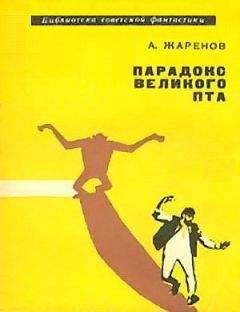– Сколько сегодня молочка, мэм? Спасибочки, мэм, да, мэм, нет, мэм, спасибочки, мэм, здрасте, мэм.
Я сам себе показал язык,
– Ето йя-а-а!
Сомнений не было. Мне оставалось быть хитрым, уклончивым, дипломатичным – одним словом, умным. Иначе я мог завоевать девушку только с помощью дубинки. Эви – девушка, да еще какая! Как она меня яростно отшвырнула на три метра, как ловко отстраняла мои жадные лапанья, как нежно, робко отводила мои руки. Сомнительно даже, что и дубинка бы помогла. Но, с другой стороны, канувшая на дно пара брюк не допускала разночтений. Эви была доступна.
– Ето йя-а-а!
Она прошла по южной стороне Площади, на сей раз не глянув на наш дом, и, наученный горьким опытом, я решил немного повременить. Она уже сидела на парапетном камне моста, когда я к ней поднялся. Я не знал, с чего начать, не выработал никакой блестящей стратегии. Думал было изобразить интерес к птицам в надежде, что она согласится вместе со мной наблюдать, как наши меньшие братья клюют червячков или что там еще они делают. Но я не умел отличить сову от жаворонка и не знал, как про них говорить. Собирать полевые цветы, разыскивать следы древних развалин, выкапывать редкие минералы? Нет! Я ничего не мог придумать. И если она, как стяг, поднимет родительский запрет, мне придется толочься на мосту или на невозможном пути от него к Бакалейному тупику. Тем не менее, мелко приплясывая, я прошелся перед ней и встал, держа за оба конца поперек живота свою трость.
– Привет, Эви!
Эви склонила голову к плечу и улыбнулась:
– Долго ты.
– Занят был.
– Занят? Ты!
Подтекст меня оскорбил.
– Я в себя прихожу. Я очень много работал.
– Пианино – это работа, по-твоему?
– Нет, конечно.
Она ничего не сказала, только все улыбалась. Я туманно гадал о том, что такое пианино; но пока я гадал, Эви начала мурлыкать. Ноты схлестнули меня, как всегда схлестывали ноты, я стал рыться в памяти.
– Доуленд [7]!
Эви громко расхохоталась, еще похорошела и рассиялась вся. Она пела:
– Мою овечку
Веди на речку,
Потом на луг, потом на луг,
Потом на луг!
– Да у тебя же отличный голос! Тебе бы...
– Ходила на уроки, ходила.
– К мисс Долиш? К Пружинке?
– Ла-ла-ла-ла-ла-ла!
И мы вместе хохотали в газовом свете, вспоминая нашу мрачную училку и нудные уроки.
– Ла-ла-ла-ла-ла-ла!
– Пела бы ты почаще!
– И не Доуленда, а другого кого, да, мистер Умник?
– Тебе бы дальше учиться, Эви.
– А я чего? Я ничего. Вот играл бы кто для меня...
– У тебя нет пианино?
Она тряхнула головой. Я посмотрел мимо этой головы, на реку, но вместо реки в глазах щелкнула моментальная фотография Бакалейного тупика. Дом сержанта Бабакумба стоял против дома капитана Уилмота – оба на порядок приличней прочих. За ними, неуклонно становясь все приземистей и невзрачней, все грязнея, ветшая, дома сбегали к развалинам мельницы. На дороге дрались и валялись в грязи ребятишки. Мальчики одевались в униформу Бедного Мальчика: отцовские подрубленные штаны, отцовская отставная рубашка. Все почти босиком. Я вдруг сообразил, что именно газеты называют трущобами. Если пианино нет у мистера Бабакумба, его, конечно, нет там ни у кого.
– А капитан Уилмот? Как он?
Снова она тряхнула головой.
– У него граммофон и радио. Раньше, когда я еще маленькая была, звал, бывало, послушать.
– Очень мило.
– Лимонаду стакан, булочка. Музыка все классическая. У него и машинка пишущая есть.
Мы помолчали.
– Так что я не стала дальше петь учиться, – наконец сказала Эви. – А на машинке учиться так и так надо...
Я понял. Печально кивнул. В самом деле, досадно.
– Ты сегодня не играл, да, Олли?
Я засмеялся и поднял свой пострадавший палец. Она схватила его белыми пальчиками, стала осматривать. И все повторилось с точностью репринта – смешки, хохот, превращение из дичи в ловца, рывок с моста вниз, в темноту, полупораженье лицом к лицу, да, нет, не надо, да, нельзя, поцелуи, борьба, запах, три сливы, мерцание кожи, трясучка...
– Я тебе не нравлюсь?
– Ну почему... нет, Олли, не надо...
– Ох, ну, Эви, Эви...
– Не надо – это нехорошо!
Я без нее знал и был совершенно согласен, что это нехорошо; знал и то, что для меня лично быть хорошим сейчас – не главная цель.
– Пусти, Олли, а ну пусти!
Снова меня отбросили на три метра. На сей раз я одной ногой угодил в реку. А когда выкарабкался, Эви смотрела в небо.
– Ты слушай!
Что-то глухо урчало меж звездами. Она взбежала на мост, застыла. Красный огонек сорвавшейся красной звездой всплывал на оглоблю Большой Медведицы.
– Прямо над нами сейчас полетит.
– Королевский воздушный флот.
Рядом с красным огоньком прорезался зеленый.
– Вдруг это Бобби?
– Бобби?
Эви смотрела вверх, открыв рот, все больше запрокидывая голову. Самолет проступил темной тенью между огнями.
– Он сказал, что сразу прилечу, как смогу. Сказал, над Стилборном буду фигуры показывать. Сказал, если место найдется, сяду и тебя возьму.
– Жди!
– Ой, смотри. Он сюда... Нет...
Она поворачивалась на пятках, когда самолет пролетал мимо, и постепенно опускала голову, пока темная тень не канула в лесу.
– Так его сразу и отпустили. Он всего-то там неделю...
Она топнула ногой.
– Хорошо вам, мальчишкам!
– Я тоже научусь летать, когда буду в Оксфорде. Наверно. В общем-то я собирался.
Она рывком повернулась ко мне.
– Ой как летать охота! Прям больше всего! И танцевать! Ну и петь! И ездить везде. Все-все делать охота!
Я ухмыльнулся при мысли о том, как Эви делает все-все. Потом вспомнил ту пару брюк и ту единственную вещь, которую мне хотелось, чтоб Эви делала – или мне позволила делать, – и перестал ухмыляться.
– Пошли вниз.
Она тряхнула головой.
– Не-а. Домой пойду.
И снова она заскользила туда, к фонарной луке. Я поплелся за нею, в душе кляня Королевский воздушный флот и, в частности, последнего его новобранца. С каждым фонарем я все острей ощущал воздействие среды и замедлял шаг. Эви тоже его замедляла.
– Ну ладно, пока. До завтра, Эви.
Она пошла дальше, бросив мне улыбку через плечо. Оглянулась, подняла левую руку, помахала расслабленной пятерней. Я сосредоточенно изучал черты Дугласа Фербенкса перед кино. Когда она скрылась на Площади, я тоже пошел домой, держась по другую сторону ратуши и не выходя из ее тени, пока не убедился, что на Площади все спокойно.
Когда я вошел, мама чинила мои трусы. Сверкнула на меня очками, когда я садился, снова склонила седеющую голову над работой.
– Бобби приехал, знаешь?
– Бобби Юэн?
– На выходные.
– Господи – не на самолете?
Мама рассмеялась, поправила блеснувшим наперстком очки.
– Нет, конечно. Миссис Юэн ездила на машине в Барчестер [8] его поезд встречать.
Папа выбивал трубку о каминную решетку.
– Наверно, первым классом. Офицерам положено.
– Какой он офицер, папа! Кадет какой-то.
– А... Ну... Тогда не знаю.
Я встал, заметив, как мама глянула на меня и отвела взгляд. Метнулся в ванную, осмотрел рот, но следов помады не обнаружил. Я стоял перед зеркалом и укреплялся в прежней оценке своего лица. Мало того, что не тонкое. Тоскливое и злое. Я старался представить себе, как в точности выглядит голая девушка – как выглядит Эви. Определенной картины не вырисовывалось, но я предполагал, что она выглядит очень ничего. Вдруг я спохватился, что в том же виде силюсь представить себе Имоджен Грантли. И ужаснулся, что – пусть невольно – поставил их на одну доску. Мне вообще не полагалось обо всем этом думать, об этом мечтать. В мои восемнадцать лет. Крикет, футбол, музыка, прогулки, химия – вот что мне полагалось. Имоджен выигрывала в несказанном, нежном соревновании. Я прижался к зеркалу лбом, закрыл глаза и так долго-долго стоял. Ни о чем не думая. Растворившись в чувствах.
Тем не менее с утра я уже снова отчаянно ломал себе голову. Я с дикой бравурностью терзал клавиатуру, твердо решившись затащить Эви куда-нибудь, где можно будет осуществить мое порочное намерение. Ну да, порочное. Да, я порочный. Я поклялся, что буду непреклонен, и мне полегчало. После чая я пошел в лес и обрыскал опушку в поисках укромного местечка для покоя и услад. Мест таких нашлось предостаточно. И от каждого у меня чуть подскакивала температура, так что в конце концов я задыхался и весь вспотел. Я снова вышел на дорогу, чтоб спуститься с горки и поджидать ее на мосту, и тут услышал грохот. Пронесся веллингтоновский профиль. Мелькнула сидящая сзади раскорякой Эви, белые кружавчики, всхлестнувшие на ветру, блеск глаз, восторженно разинутый рот. Все исчезло, лес сомкнулся за ними.
Погодя я спустился с горки, перешел Старый мост, вышел на Главную улицу. Пришел домой. Мама подняла глаза от латаемых отцовских подштанников.