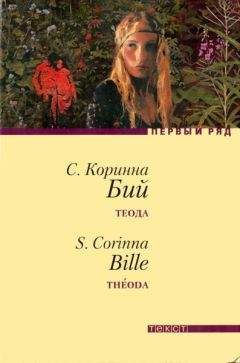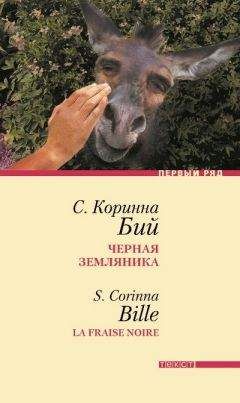Голос у него был хрипловатый, но очень четкий, и фразы, которые он всегда выговаривал очень медленно, тоже звучали отчетливо. Этот голос… окружающие сперва его слышали и лишь потом разбирали слова, потому что он пронизывал тело прежде головы. И когда этот голос звал, мог ли кто-нибудь противиться ему?! Впрочем, звал ли он кого-то хоть раз в жизни? Сейчас я в этом сомневаюсь. Реми ничего не просил у других. Его не тянуло к людям, как тянет многих из нас. Он не желал себя утруждать. Эдакий знатный сеньор.
Вполне вероятно, что окружающие просто не интересовали его. Думаю, его замкнутость объяснялась полным безразличием ко всему, что не было им самим и Теодой.
Марсьен Равайе пустился рассказывать вместо него. Мне вдруг так захотелось спать, что я плохо расслышала начало его истории. До меня доходили одни только пустые оболочки слов, лишенных сердцевины, как вдруг прозвучало имя, которое придало смысл всему повествованию:
— …Ну вот, а Карроз упал прямо рядышком, а рот-то у него был разинут, и вода залилась внутрь.
— Бр-р-р! — воскликнул Мартен.
— Мне хотелось пить, — сказал Реми.
Эмильена калила на тлеющих углях орехи. Женщины подходили, вытаскивали их из очага, и каждая бросала две-три штуки в свой стакан с красным вином, добавив туда сахара. Раскаленная скорлупа нагревала вино и сообщала ему легкий привкус гари. Они считали этот напиток средством от всех болезней и очень его любили. Осушив стакан, они запускали в него пальцы, вытаскивали мокрые орехи и сосали их, а потом раздавливали между ладонями.
— А я знаю кое-что такое, чего никто из вас еще не знает! — вдруг громко объявил мой брат Пьер.
— Погоди, я хочу дослушать историю Марсьена, — умоляюще сказала Ромена.
— Да она уж всем обрыдла! — отрезала Сидони.
— А ты-то от кого новостей набрался? — подозрительно спросила Пьера мать.
— От Эрбера, я его видел в воскресенье. В столице они все только об этом и толкуют.
Его слова заинтересовали присутствующих.
— Там некоторые ездили в Париж, — начал он, — и брали с собой коз, обыкновенных коз, но только крупных, потому как эти козы жили на воле и отрастили здоровенные рога. И вот там они стали рассказывать, будто это дикие козлы с Сен-Бернара.
— А те поверили?
— Еще как поверили! Этих коз даже ученые осматривали. Один такой умник говорит: это, мол, альпийские горные козлы. А другой: нет, это серны. И никому из них невдомек, что перед ними простые козы.
— Быть того не может! — заметил мой отец.
— Ай да шутники! — заключила мать.
— Ох, Господи Боже мой! — Мартен так хохотал, что чуть не упал со стула.
— Ну, хвастать-то они все мастера, — возразила Сидони. — А вот признаться, как они опоздали на поезд или перепутали вокзалы да как у них из-под носа вещи сперли, тут их нет!
— Это уж верно.
— А ты-то что знаешь! Молчала бы уж лучше! — крикнул ей Мартен.
— Думает, будто она умней других, — добавил Пьер.
Они уже прилично выпили, наши мужчины, и усталость, смешанная с легким хмелем, все больше и больше отдаляла их от нас, женщин и детей, не способных терять голову из-за вина.
Реми казался утомленным, а может, просто его мысли витали где-то очень далеко, в том мире, куда нам не было доступа, и я глядела на него с тревогой. Впервые мне стало ясно, что странность Реми гнездится в его взгляде. Потом я всю жизнь искала взгляд, подобный этому. Но вероятно, другого такого на земле не существует.
Два черных провала. Радужная оболочка занимала почти все пространство глаза, не оставляя места белку. Неопределенный взгляд, беспредельный взгляд — что исключало из него жесткость, — чистый, какой может быть только ночь. И при этом безмерно глубокий.
Реми не впивался глазами в других людей — не то что Эрбер! И когда он смотрел на Теоду, его взгляд не довлел над ней, не захватывал ее в плен, как смотрят другие мужчины, которые всегда боятся, что жертва ускользнет от них. Он созерцал ее так, словно она находилась не поодаль от него, а прямо в его глазах. Его взгляд преображался в Теоду.
— Нет, я все-таки хочу дослушать историю Марсьена, — снова упрямо потребовала Ромена.
— Ладно, моя козочка, так и быть, ты ее услышишь, — польщенно заверил тот.
Он ничего не оставлял при себе, разбрасывая направо и налево ту малость, которой владел. И уже собрался было продолжить свой рассказ, как вдруг я услышала другой голос, хриплый, но четкий:
— Я тогда спрятал зайца под рубашкой. Он был такой теплый. И белый…
Реми поднес стакан ко рту — к тонким губам, которые рдели на его лице, точно рана, и крепко смыкались после каждого глотка, словно он опасался, что эта «рана» начнет кровоточить.
Теода сидела напротив него; она тоже глядела на его рот. Мне казалось, что она ловит выходившие из него слова; сегодня я думаю, что она их не слушала. Да и зачем слушать? Она давно уже знала все, что Реми испытал, все, что он скажет. Она все знала о нем. Но только хватит ли ей времени до смертного часа, чтобы наглядеться на него?
Внезапно он заметил мое присутствие и впервые за многие годы заговорил со мной:
— Тебе-то этого не понять. — Затем повернулся к Теоде и, обратясь к ней на «ты», как почти сразу обращаются к новым людям в деревне, сказал: — Ну а ты… ты понимаешь.
Она не ответила ни жестом, ни улыбкой. По-моему, она даже не услышала.
Реми встал. Он собирался уходить. Было уже поздно. Все сразу засуетились. Одна Теода стояла прямо и неподвижно среди прощавшихся гостей. Я как сейчас вижу ее. Наверное, именно сейчас я ее и вижу по-настоящему.
Вдруг Реми протянул руку к ее груди. Никто этого не заметил, кроме меня. Но воздух вокруг грудей Теоды был плотен и непроницаем; мужская рука замерла на полпути, потом опустилась.
Теода и глазом не моргнула, не шевельнулась. Стоя с высоко поднятой головой, она еще какой-то миг бережно хранила вокруг своего тела воздух, в который вторглась рука Реми.
А мое сердце содрогалось от жгучей ненависти к этому человеку, сказавшему, что я не могу понять.
Когда в Терруа собирали урожай груш, их сушили в обычной печи, а потом на воздухе. Поскольку плоды вызревали на большой высоте, они были мелкие и не отличались изысканным вкусом, но нам нравилась их приятная кислинка. Груши этого сорта называли «аберьетками».
Одним октябрьским утром мы как раз занимались сушением груш, когда старый Викторьен, муж покойной Батильды, появился в дверях пекарни.
— Я иду вниз, в город, — сказал он. — Может, у вас какие поручения будут?
Мой отец еще не видел Викторьена; он чуть ли не всем телом просунулся в жерло печи, раскладывая груши так, чтобы они не касались одна другой. Всякий раз, как он глубоко залезал в печь, меня охватывала жуткий страх: я боялась, что он там сгорит, хотя на самом деле угли уже не давали большого жара, который ушел на выпечку нескольких противней ржаных хлебов.
— Отец! — крикнула я. — Тут Викторьен пришел.
Наконец он обернул к нам побагровевшее лицо с налитыми кровью глазами:
— Что такое?
— Он идет вниз.
Старик вошел в пекарню, за ним показалась моя мать. Помещение было достаточно большим, чтобы вместить до пяти человек, и, когда его заполняли люди, оно уже совсем не казалось темным. Вдоль стен, над квашнями, тянулись низкие полки. Все деревенские семьи имели право выпекать здесь хлеб и сушить фрукты.
— Батильда вернулась! — объявил нам Викторьен.
Ему пришлось повторить это дважды. Мы его не сразу поняли.
— Я всю ночь ее слышал. Она ходила по комнате… И кроила материи. Я ее не видел, только слыхал, как она щелкает ножницами…
По тому, как бережно он выговаривал эти слова, чувствовалось, что он относился к Батильде с нежной любовью.
— …Так вот до самого утра и возилась. Чинила одежду, звякала спицами, вздыхала. — Он помолчал и добавил: — Я пришел вас попросить: может, помолитесь за нее, раз она еще не обрела покой.
— Ну конечно, помолимся, — ответила мать. И спросила: — А… она говорила что-нибудь?
Старик нерешительно помолчал, потом признался:
— Она мне сказала, что Эрбер не должен якшаться с женщиной, в которую он влюблен. Это, мол, дурная женщина. И поручила мне сходить к нему, не откладывая, и передать ее слова.
— Что ж, иди… поучи его уму-разуму!
Когда старик ушел, мать прошептала:
— По крайней мере, он-то знает, где найти своего сына. — Вот уже семь месяцев, как мы не получали вестей от Леонара. — Даже после смерти от детей одни заботы. В гробу и то достанут. Подумать только, Батильда все еще мается! Но она-то хоть может наставить сына на путь истинный, все знает про него. А мы вот…
Она смотрела куда-то вдаль, и по бесконечной грусти ее взгляда можно было догадаться, что она и в самом деле ничего не видит.