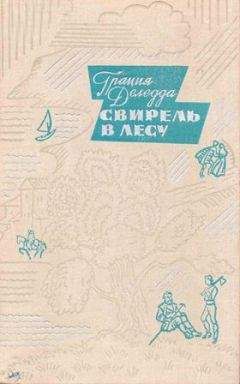Вода спала. Казалось, она устала от разбоя и теперь отступала, увлекая за собой богатые трофеи: листья, ветви, песок и тела мертвых зверьков.
На другой день опустошенный остров осветило солнце, и зайчиха, промокшая и голодная, вышла из убежища, чтобы отогреться и взглянуть на свои владения.
Пруд исчез: медленный грязный поток омывал высокий берег, стоявший как плотина, а мимо него воды реки несли свою добычу.
И вот среди голых ветвей и сухих листьев, среди множества водяных пузырьков, сверкавших, как жемчужины рассыпавшегося ожерелья, зайчиха увидела двух мертвых зайчат. Длинные, худые, с выпученными глазами и вытянутыми ушами, они плыли и плыли по течению, не отставая один от другого, как и положено любящим братьям, не захотевшим расстаться даже после смерти.
Вот теперь-то старая зайчиха действительно осталась одна на всем острове.
Удары топора
(Перевод Г. Смирнова)
Ветер раскачивает ружья и пороховницы старого пастуха, свисающие с огромного каменного дуба. Можно подумать, что это не Монте Альбу, а леса древней Галлии, а дуб — священное дерево друидов, украшенное магическим оружием. Да и старик, который, примостившись на корнях дуба, вырезает на роговой табакерке причудливый узор, выглядит как настоящий жрец: у него раскосые глаза, широкий лоб, изборожденный темными морщинами, большой орлиный нос и рыжая с проседью борода, концы которой у самого пояса закручиваются в два больших завитка.
Стада отдыхают в тени утесов, на которых высятся могучие дубы, сотрясающиеся от порывов ветра. Из чащи то и дело доносятся удары топоров, их подхватывает эхо, и, кажется, что от них гудит и содрогается весь лес.
Артели дровосеков валят там тысячелетние деревья, с каждым днем все дальше продвигаясь в глубь леса, все ближе подбираясь к увешанному оружием дубу, под которым устроил свое жилище старый пастух. И древний могучий дуб, устоявший под ударами молний и не раз укрывавший разбойников от яростной бури, и старый пастух, над которым годы пронеслись, не вырвав ни единого волоска из седеющей бороды, ни одного зуба из сильных волчьих челюстей, — оба они ждут теперь нашествия захватчиков и разрушителей, чьи топоры оказались сильнее молний и времени. Они ждут их с тем же стоическим равнодушием, с каким ждут смерть. С каждым днем, с каждым часом удары топоров раздаются все громче, все ближе, а между тем весенняя земля, как всегда, одевается в золотистый цветной наряд, а июньский ветер становится все теплее и ароматнее. Никогда еще лес не был так красив, никогда еще он не цвел так пышно. Может, он чувствует, что настала его последняя весна, и хочет забыться в опьяняющем аромате и не думать о надвигающейся смерти.
Кажется, что молодые дубы забрались на скалы, надеясь укрыться от гибели. Когда над их вершинами проносится ветер, деревья тревожно вздрагивают, а когда на землю опускается синий вечер и луна жемчужиной скатывается на пурпурный бархат горизонта, дубы роняют сухие листья, и кажется, что они плачут.
Дядюшка Косма вырезает на табакерке рисунок, изображающий два героических эпизода своей юности. Оба события для него одинаково значительны, воспоминание о них он пронес через всю жизнь; даже сейчас они продолжают волновать его, как смутный напек военного марша. На одной стороне табакерки изображен человек, повергающий наземь другого, а на оборотной — тот же человек поражает кинжалом свирепого вепря. Для дядюшки Косма оба эти события, героем которых был он сам, одинаково важны, и старый дуб взирает на работу художника с тем же торжественным равнодушием, с каким он присутствовал при свершении подвигов, запечатленных на роговой табакерке.
Но трагическое одиночество старого пастуха вдруг нарушается, из чащи на поляну выходит молодой швейцарец-углежог, Он высок и строен, на его лице, перемазанном сажей, играет наивная детская улыбка. Он насвистывает арию из «Травиаты» и еще издали показывает старику черную бутыль.
Дядюшка Косма поднимает голову, окидывает юношу презрительным взглядом и, погрозив ему пальцем, говорит: «Нет!»
Но юноша продолжает идти.
— Я же сказал, не-е-т! — кричит старик. — Молока ты у меня не получишь, ей-богу, не получишь. Хочешь пить, попей керосину с порохом! И убирайся к дьяволу вместе с теми, кто тебя привел сюда!
Юноша не понимает ни слова: пастух объясняется на грубом диалекте. Улыбаясь и продолжая показывать бутыль, он усаживается рядом со стариком.
— Молока бы? — произносит он гортанным голосом.
— А пулю не хочешь? Эх ты, падаль! Разве ты мужчина? — говорит дядюшка Косма с царственным презрением. — У тебя голубые глаза, а руки и ноги маленькие, как у бабы. Взгляни-ка на эту табакерку: она из рога. Знаешь, что такое рог? Рога! Ты женат?
— Что?
— Как тебя зовут?
— Что?
— Ничего не понимает! — смеясь, восклицает дядюшка Косма. — Разве это люди? Жена, жена, говорю, у тебя есть?
— Нет, — отвечает юноша, улыбаясь ясными блестящими глазами. — А дочки у вас есть?
— Есть, да не про твою честь. Если хочешь, они сплетут тебе веревку для удавки.
— Что? Папаша Косма, а я знаю ваших дочек! Я их видел, когда они танцевали на площади возле церкви. В воскресенье.
Теперь закричал старик:
— Что? Что? Что ты знаешь, подонок, подлые твои глаза, рогоносец несчастный! Если ты еще хоть раз посмеешь назвать меня папашей Косма, я тебя изобью, ей-богу, изобью!
Но юноша продолжает улыбаться, постукивая пальцами по бутылке. Слышно, как в чаще леса печально стонет ветер, удары топоров раздаются все ближе.
— Тьфу! Эти дьяволы все ближе и ближе! — говорит дядюшка Косма. — Послушай, вы что, все тут порубите?
— Что?
— Вы все здесь порубите? Вот так. — И он жестом показывает, как рубят деревья.
— Все.
— И дуб этот тоже? — спрашивает старик, дотрагиваясь до ствола.
— Да!
— Убирайся вон! — взрывается вдруг дядюшка Коска. — Проваливай отсюда, подлая твоя душа! Убирайся, не то я тебя убью, раздавлю, как мокрицу!
— Что? — Юноша больше не смеется, он вскакивает на ноги, не на шутку напуганный дикими воплями старика,
— Боишься? — кричит дядюшка Косма. — Боишься взглянуть мне в глаза? Ах ты, сопляк, ах ты, дрянь паршивая, меня, старого ястреба, ты хочешь согнать с насиженного гнезда! Да я тебе глаза вырву! Убирайся! Чего стоишь? Видишь, что вырезано на этой табакерке?
— Что?
— Я вот тебе покажу «что»!
Дядюшка Косма встает, подходит к юноше и сует ему под нос табакерку.
— Видишь? — говорит он. — Этого человека я убил. Понимаешь?
— Да, — кивает юноша, не сводя с табакерки добрых испуганных глаз.
— Так вот, я загубил эту христианскую душу, загублю и тебя, и твоих друзей, как только вы сунетесь сюда рубить лес. Понял? Так им и передай. И убирайся отсюда немедленно, сию же минуту, иначе плохо будет!
Юноша все прекрасно понял. Опустив голову и улыбаясь, он медленно идет к лесу. Он думает о хорошеньких дочках старика, одна из которых, белая и тонкая, как лилия, улыбнулась ему вчера большими черными глазами.
«Я бы на ней женился, — думает он, — да старик смотрит волком. А все-таки он славный! Кто его знает, чем еще все кончится».
— Папаша Косма! — кричит он, обернувшись. — Привет вашей дочке!
— Ну погоди, козел рогатый, погоди! — Старик, словно кошка, вскакивает на ноги и срывает с дерева ружье. Юноша, смеясь, как ребенок, удирает в лес.
— И пороху тратить не стоит! — говорит дядюшка Косма, презрительно покачивая головой. — Разве это люди! Теперь небось побоятся ко мне лезть!
И он снова принимается за табакерку. А в ударах топоров, эхо которых разносится по всему лесу, слышится:
— А мы все рубим, рубим и рубим!
СБОРНИК
Светотень (1912)
Юго-западный ветер
(Перевод Н. Георгиевской)
Уже три дня шквальный юго-западный ветер гнал разъяренное море на оголенную землю. Небольшая бухта, на берегу которой теснилось несколько хижин, была, как всегда, пустынна. Лишь рев ветра и грохот прибоя сотрясали воздух. И все-таки любовники продолжали встречаться на скалистом морском берегу.
Первым появился мужчина. Вытянув вперед руки, осторожно нащупывая дорогу, он спустился вниз и бросился на темный песок, где сгущались ночные тени.
Справа от него горизонт замыкали свинцовые громады гор. Тяжелые темные тучи быстро неслись над ними. Молодой месяц золотил своими лучами этот лиловатый каменный хаос, который крутой грядой спускался к морю, переходя слева в длинную цепочку скал. Скалы пожирали вздыбившиеся волны и изрыгали их, как насытившиеся чудовища.
Мужчина взглянул в сторону безмолвных хижин, и сквозь шум ветра и моря ему послышался чей-то стон. Может, это стонал какой-нибудь больной? Ведь в этих хижинах жили больные крестьяне, которые на повозках или верхом на неприхотливых лошаденках приезжали сюда из дальних мест, надеясь обрести исцеление, купаясь в море. А может, это стонал, страдая от непогоды, ее муж, чье немощное тело покрыто отвратительными ранами, похожими на язвы прокаженного? Потому, наверно, она и запаздывала.