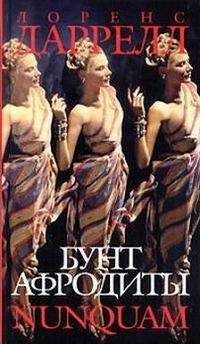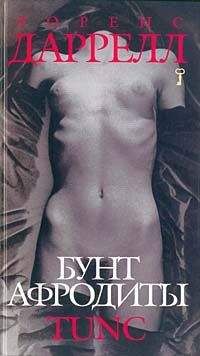Итак, он медленно уходил, как вечернее солнце уходит за горы. В мучительном молчании они не сводили друг с друга глаз, почти не замечая смертельной битвы лошади, а та пускала пузыри, стонала, вращала глазами, задыхалась и медленно погружалась в болотную пучину, которая отзывалась на это громким весельем. Вскоре он тоже погрузился по грудь и стал похож на незавершённую статую рыцаря на коне.
— Значит, так, — с удивлением прохрипел он. — Значит, так, Бенедикта.
— Значит, так, милый.
Не сводя с него глаз, она недрогнувшими пальцами взяла сигарету и, быстро неглубоко затягиваясь, раскурила её. Однако теперь это было ужасно, потому что он громко зарыдал и лицо у него стало как у ребёнка. Умирая, он как будто сбрасывал годы и вскоре превратился в младенца. Это было тяжело. Мешая сосредоточиться, пробивало себе дорогу неисправимое сострадание. Сохранять хладнокровие становилось всё труднее. Склонив голову набок, он тяжело дышал открытым ртом. Руки у него отчасти оставались свободными, но локти уже понемногу засасывало болото. Наверно, было ещё не поздно бросить ему верёвку и обмотать её вокруг дерева? Она отбросила эту мысль и, наблюдая за ним, постаралась больше не подпускать её к себе. Не столько страх смерти, думала она, сколько бесчестное предательство вызывало слёзы у подростка, младенца в соломенной шляпе. Но прошло немного времени, и он решил пощадить её чувства: слёз не стало; на него снизошло смирение агнца, потому что он до конца осознал безнадёжность происходящего. Стремительным движением она отрезала камышину и, насадив на неё, подала ему раскуренную сигарету, чтобы он мог сделать затяжку. Однако он смахнул сигарету, отвернулся с едва заметным вздохом и тотчас тяжело осел, дрожа всем телом, но не издавая ни звука — ни упрёка, ни проклятья, ни мольбы о помощи не сорвалось с его губ. Ни пузырька воздуха. Всё кончилось очень быстро. Она смотрела и смотрела, пока на поверхности не осталась одна шляпа. Потом ей долго не хватало сил оторваться от этого места. Она что-то бормотала и вдруг почувствовала жар во всём теле; её охватил жгучий восторг. Она доказала себе, что достойна Джулиана. Ей удалось выловить соломенную шляпу — и она понесла ему этот трофей, как кто-нибудь другой понёс бы отрубленную голову преступника. В долине стояла тишина, гнетущая тишина. Она попыталась петь на ходу, однако от этого тихие сумерки становились ещё страшнее. Пару раз ей чудились удары копыт за спиной, и она оборачивалась посмотреть, не скачет ли кто-нибудь следом, — но никого не могла разглядеть.
Вот! Рассказать легко, вспомнить легко, но трудно соединить происшедшее с собой. Слова застревают у неё в горле, как окровавленные тряпки, которые она не в силах проглотить.
— Неправильно было бы сказать, что я не сожалею; конечно же, сожалею. Но больше всего меня мучает уязвлённое самолюбие, ведь это я, моё великолепное, несравненное, прекрасное «я» виновно в низком предательстве. Вот видишь, какую ловушку приготовило мне моё «эго»? — Она подняла белый кулачок и ласково постучала по моей груди, потом упала на меня, прильнув губами к моим губам в удушающей пародии на печаль, исчезнувшей в новой серии любовных пароксизмов. — И всё-таки самое нелепое и унизительное, что случилось со мной до сих пор, это моя любовь к тебе с первого взгляда. Вот уж было невыносимо, такой удар по самолюбию, да ещё угроза моей свободе. Да и ты тоже — очень долго тебе по-настоящему грозила опасность. Бедный дурачок, ты бы не поверил; разве я могла рассказать тебе? Мне и самой не верилось. Помнишь, комедию ошибок с маленьким клерком? А ведь предполагалось, что он убьёт тебя в подземелье. Бедняга! Сначала ты сомневался, стоит ли подписывать контракт, потом этому коротышке приказали покончить с тобой — но даже под угрозой смерти он не годился для такой работы. Вся тогдашняя поездка, которая показалась тебе такой забавной, была вроде генеральной репетиции для Сакрапанта. К счастью, ты всё не ставил и не ставил подпись, и у меня появился шанс уломать Джулиана. Я уговорила его отменить приказ. «Оставь его мне, — сказала я. — Я высосу из него всю кровь. От него ещё можно много чего получить. Если необходимо, Джулиан, я буду его женой, а потом мы отделаемся от него». Однако из-за проволочек с подписыванием контракта бедняжка Сакрапант до того устал от неопределённости, что стал ни на что не годным, его время вышло.
— И он упал с неба?
— Да, упал. Поцелуй меня.
— В каком-то смысле он стал жертвой вместо меня.
— Да нет, ничего подобного. Это я стала жертвой.
До меня понемножку стал доходить смысл первых встреч, первых контактов с фирмой. У них уже была возможность просмотреть мои записи, показавшиеся им многообещающими.
— Бенедикта, дорогая, скажи мне ещё кое-что.
Но она спала, и её белокурая головка, лежавшая у меня на груди, поднималась и опускалась в ритме нашего дыхания, как чайка над тихим летним морем. «Понятно», — прошептал я, но на самом деле до понимания было ещё далеко. Мне припомнился Иокас, говоривший о невозможности проследить истинную причинно-следственную связь между событием и тем, что его вызвало. В контексте воспоминаний о душке Сакрапанте я мысленно представил бледное лицо, похожее на мордочку водяной крысы, в дрожащем свете подземных водохранилищ.
Впервые свою страсть к чёрной магии, которая всегда владела его мыслями, Джулиан утолил в Турции; тут он мог ставить любые опыты и не бояться последствий. «Идолопоклонники Сирии и Иудеи получали предсказания от отсечённых детских голов. Сначала их высушивали и клали им под язык зашифрованные послания на золотых пластинках, после чего помещали головы в настенные ниши и сооружали внизу из связок волшебных растений нечто вроде тела; потом зажигали лампы перед своими страшными идолами и приступали к расспросам. Идолопоклонники верили, что головы говорят… кроме того, кровь привлекает личинок. В древности, совершая жертвоприношение, люди копали яму и заполняли её тёплой, дымящейся кровью; а потом в чёрной ночи видели, как сползаются к ней слабые бледные тени и шуршат, кружатся, толпятся над ней… Когда на алтарях разжигали большие костры из лавра, ольхи и кипариса, то клали сверху асфодель и вербену. Ночь как будто становилась прохладнее…» (Молчаливый Джулиан в кресле с высокой спинкой и с открытой книгой на коленях.) Кроме того, «если женщина наотрез отказывается от пассивной роли и предпочитает быть активной, она отрекается от своего пола и становится мужчиной или, поскольку физически это невозможно, из-за двойного отвержения оказывается вне пола, подобно бесполому и чудовищному андрогину».
Я начинал видеть его куда яснее и в своих размышлениях, как мне показалось, уловил мимолётное видение altera[18] Бенедикты, очаровательную окаменелость, которую судьба трансформировала обратно в прелестный оригинал, любимую разбойницу, почти позабытую мной в изнурительной борьбе. Что же до её таинственного и неуловимого любовника, то почему бы ему не пожелать власти над возрастом и временем, впервые заполученной Симоном Магом? «Иногда он был бледным, слабым, разбитым по-стариковски, стоящим на пороге смерти, иногда — сияющим, лёгким, оживлённым, со сверкающими глазами, нежной гладкой кожей, прямой спиной. Его можно было реально наблюдать и юношей, и дряхлым стариком, младенцем и зрелым мужчиной». На Леванте размышления, поглощавшие юного Джулиана, не считались извращёнными; и в этом тоже был привкус всепоглощающей восточной лени. В Авалоне, если нырнуть поглубже, всё ещё можно видеть тяжёлые мешки с головами женщин — около сорока, — утопленных, будто кошки, Абдулом Хамидом в неожиданном приступе ярости против всего женского пола. Тех женщин, которые не захлебнулись сразу, зелёным вечером забили до смерти вёслами; жертвы жалобно молили о спасении, и у исполнявших приказ мужчин бежали по щекам слёзы. А Хамид? Помните, что написано о великом царе Сарданапале? «Он вошёл и с удивлением зрел царя с набелёнными щеками, украшенного драгоценностями наподобие женщины, который чесал шерсть вместе со своими наложницами, сидя между ними с насурмленными глазами, в женском платье, с коротко подстриженной бородой и натёртой пемзой кожей. Его веки тоже были разрисованы…» Потом он поставил высоченный костёр, чтобы закончить на нём свою жизнь; этот костёр был в несколько этажей, и сожжение продолжалось несколько недель. Всё, до последней мелочи, исчезло в огне.
Кстати, лишь один раз она осмелилась прямо сказать ему о своей любви, лишь один раз. Невозможно описать ужас и ярость, охватившие его. Он ударил её по лицу фолиантом не желая оскорбить её, но со всей нарочитостью. «Молчи, — произнёс он своим глубоким звучным голосом. — Молчи, дорогая». Он пытался сказать, что это не любовь, что это обладание, и, помянув любовь, она умалила истинный смысл чувства. Чувство? Нет, это слово не подходит. Всё, что только возможно в физическом и сексуальном унижении, она принимала от него с превеликой радостью, с истинным блаженством. Джулиан отроду не плакал. Это Иокас взял ножницы и прибил их с раздвинутыми ручками к стене подвала. Решили, что Джулиану надо уехать и учиться отдельно; отчасти из-за возникшей между ними ненависти. Однако нельзя отрицать и значение будущих потребностей фирмы, той фирмы, что должна была появиться на свет; ибо неафишируемые расчёты Мерлина потихоньку начинали приносить плоды. Благодаря его хитрости возникало много прибыльных проектов: например, когда Абдула Хамид отдал концессию на покупку и продажу табака еп regie[19] некоей компании, додумавшейся поставить на австрийскую бумагу tougra, или монограмму, султана. И никто не обратил на это внимания, кроме Мерлина. Неужели султану понравится, спросил он, если каждый день на его портрет будут плевать десятки тысяч курильщиков по всей стране? То же самое произошло с почтовыми марками, украшенными головами чудовища. На неё что, тоже — брызгать слюной почтовым клеркам? Очень быстро концессия перешла к Мерлину, к его фирме.