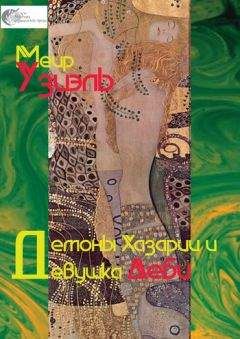— Другое? — осипшим шепотом переспросила она.
— Ведь я же сказал: мы пока что не знаем!
И доктор, раздраженно возвысивший голос, хотел захлопнуть за собой дверь ординаторской. Ольга ухватила его за рукав зеленого халата:
— Послушайте! Что это?
— Рак, вот что это, — буркнул доктор. — По первым анализам и по симптомам.
— О, Господи! Рак! Да откуда же? Разве… — Она вдруг заплакала и пошатнулась.
— Вот плакать не стоит, — угрюмо пробормотал доктор. — Вам сил так не хватит. А силы нужны. Для него. Нужны силы.
Через неделю Петра собрались выписывать.
— Спасибо болей нет, — сказал тот же доктор. — Ремиссия. Будут! Тогда только морфий. Но это недолго.
— Но он же так верит, что с ним все в порядке, что эти уколы…
Доктор потрепал ее по руке:
— Они все так верят, такая защита. Родные-то есть? Кроме вас? Мать там, дети?
— Нет, мать умерла. И детей тоже нет.
— Вы, значит, одна? Ну, держитесь.
Накануне выписки в больницу приехала Виктория, внесла с собой облако снежного воздуха и начала доставать из большой своей сумки кульки и пакеты.
— Теперь тебе надо разумно питаться. Теперь не до шуток. Ведь что мы едим? Мы едим тихий ужас! Что яйца, что куры — одни химикаты! А эта свинина, баранина эта! Их в рот нельзя взять. Лучше б просто гуляли! Паслись бы себе на приволье, чем есть их! Травиться, и все! Ни уму и ни сердцу! Сегодня пошла я на рынок. Со списком. И вот принесла. Понемножку, но прелесть! Разумно, спокойно, без гонки. Со списком. Смотри: вот яичко. Какое яичко? Ты думаешь: просто? Яичко, и все тут? А это: ЯИЧКО! Свежей не бывает! Берешь его в руки и внутренность видишь. И есть его можно — тебя не обманут. А это вот творог. Крупинка к крупинке! Смотрю, продает его женщина. Руки! Буквально Джоконда! Все чисто, все с мылом! А то вот на днях покупаю картошку. Смотрю: она писает! Баба-то эта! Картошку мне взвесила и пис-пис-пис! Дает, значит, сдачу, сама: пис-пис-пис! Ну как же так можно? В рабочее место!
Петр криво улыбнулся. Виктория выразительно посмотрела на Ольгу.
— А фрукты, конечно, обдать кипяточком, — пропела она, приподнимая над кроватью кисть прозрачного, словно стеклянного, винограда. — Пойдем с тобой, Олечка, и обдадим.
В коридоре она остановилась и всплеснула руками:
— Ой, Олечка! Ой-ой-ой, Оля! Его не узнать! Ведь это не он же, не он это, Оля! Ведь надо спасать! Ведь спасать его надо! Чего же мы ждем-то! Ведь чуда не будет!
— И как же спасать? — прошептала Ольга, не поднимая глаз.
— А как? Есть два плана. И оба прекрасных! Я все просчитала. Во-первых, народ. То есть их медицина, народная, древняя, вечная, Оля! У нас тут, в Сокольниках, рядом, — целитель! Его разыскали буквально случайно. Был найден в лохмотьях, в коробке, без пищи! И лечит людей, чудеса вытворяет. А денег не нужно. Поесть, ну, одежду. И все! Не берет ни копейки. Вот план. Это — первый.
— Какой же второй?
Виктория чуть покраснела, запнулась:
— Второй: заграница. Америка, в общем.
— С какой это стати?
— Ну, как же? Там Деби. С деньгами. И, в общем…
— Любовница, в общем, — перебила ее Ольга. — Еще предложения есть? Или хватит?
Виктория вспыхнула так сильно, что слезы выступили на глазах.
— Ты глупая, Оля. Сейчас не до жиру…
Вернулись в палату. Петр неподвижно лежал на спине и, не обращая внимания на громко работающий телевизор, смотрел в одну точку.
— Петяня, — преувеличенно бодро спросила Виктория, — поедешь в Америку? Я все устрою.
Петр мутно и безжизненно посмотрел на нее.
— Опять, что ли, зубы лечить? — И тихо, через силу, засмеялся.
С зубами действительно вышла нелепость. Добросовестный доктор Май, поставив временные пломбы Наташе и Лене, объяснил Деби, что теперь должен увидеть их не позже, чем через двадцать дней, и с тем они обе покинули Бостон. Будучи чуткими и застенчивыми девушками, Наташа и Лена не звонили Деби и не напоминали ей о словах терпеливого доктора Мая. А Деби, конечно (в горячке, в тревоге!), об этих зубах — ей чужих — позабыла. И выпали пломбы, и все развалилось. В последний месяц Наташа и Лена питались одной манной кашей, и то с дикой болью. Наконец не выдержали и побежали в стоматологическую поликлиннику неподалеку от метро «Проспект Вернадского». Услышав, что их полечили в Бостоне, большая, с пушистыми, как персики, щеками врачиха потеряла ненадолго дар речи, выскочила из кабинета и вернулась не одна. Пришли два хирурга и все протезисты.
— Ну, вот, — с наслаждением залезая крючком в чернее, чем сажа, дупло бедной Лены, сказала врачиха. — Вот как их там лечат! А мы разбирайся! На нас все их шишки! А что мы здесь можем?
Петр, вспомнив про эту историю, просто шутил. Однако Виктория разгорячилась:
— Не надо принцесс из себя было строить! А надо спокойненько взять, позвонить: вот так, мол, и так. Мы вам напоминаем, что был уговор, чтоб вернуться к вам в город. Нам доктор, который лечил, он китаец, велел, чтоб не позже конца ноября. Поэтому просим сказать ваши планы. Питаемся жидкостью, спим очень плохо. И все! И порядок! Никто не в обиде!
В субботу днем на квартиру к Петру привезли народного целителя. Окажись там, в этой квартире, Деби или Ричард, они без сомнения узнали бы в этом крепком, разрумянившемся от холода старике того самого, заросшего седыми кудрями бомжа, которого встретили летом у Белого дома. Бомж, однако же, неузнаваемо переменился. Высокий, чистый, с аккуратно подстриженной серебряной бородой и слезящимися после улицы глазами, в новом добротном ватнике и пегой ушанке, он, войдя в столовую, первым же делом перекрестился на приобретенную Петром и только что отреставрированную икону. Петр, слабый, на странно тонких, словно бы вытянувшихся ногах, со своим обтянутым сухой кожей лицом, вышел ему навстречу. Старик низко поклонился ему.
— Что мне-то вдруг кланяться? — усмехнулся Петр. — Я что, государь-император?
— А я не тебе, — спокойно возразил целитель. — Болезни твоей. Испытанию Божью. Ступай ляжь на койку.
— Пижаму снимать?
— Да какую пижаму? У доктора сымешь. А я сквозь пижаму гляжу. Ляжь спокойно. — И несколько раз провел медленными, немного дрожащими руками над телом Петра. — Тягают кишки-то?
— Тягают, — испуганно повторил Петр и закашлялся.
— Ну, так, — подождав, пока он утихнет, сказал старик. — Гнили много. Она и тягает тебя, гниль-то эта.
Петр почувствовал, что тепло, идущее от стариковых рук, проникает как-то слишком глубоко, прожигает его, так что голова начинает кружиться и все, что есть перед глазами, приподнимается и повисает в воздухе.
— Давай вспоминай, — сурово сказал старик. И опять повторил: — Гнили много.
— А чего вспоминать?
— Как чего? Жил ведь ты? И сам, и с людями. Работал, ходил. Кого обижал? Кому врал с пьяных глаз? Скольки деток соскреб?
— Каких еще деток соскреб? — испугался Петр.
— Таких, — спокойно сказал целитель. — У тебя по молодому делу два мальчишечки были. А ты не желал. Покрутил да убег. Молодуха пошла к докторам, да — ножом! Так вот дело. Еще. От другой. Там-то дочка была. Тоже, значит, ножом. Потом мать. Ну, что мать? Хворь на хвори. Одна. Ты все тут, она там. Терпит-терпит. А ждет: может, свидимся? Нет. Больно занят. Куда! Так не свиделись. Ну! Мать в гробу выносить — тут и ты! Я, мол, раньше не мог! Самолет не летел! А наврал. Ух, наврал! Много, парень, ты врал.
Петр опять закашлялся. Старик пожевал губами.
— Продышись, — сказал он негромко. — Продышись и лежи. Я молитву скажу.
Он медленно перекрестился и вытер свои слезящиеся глаза рукавом.
— Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый, отнюдуже отбеже болезнь, печаль, воздыхание, всякое согрешение, содеянное им, словом или делом или помышлением, яко благий человеколюбец Бог прости, яко несть человек иже жив будет и не согрешит: Ты бо един кроме греха, правда Твоя, правда вовеки и Слово Твое истина. Яко Ты еси воскресение и живот.
Петр со страхом смотрел на него, серое лицо его мелко дрожало.
— Говори за мной, — приказал старик. — Проси Его. Божья воля на нас. Господи Исусе Христе Боже наш, мир Твой подавый человеком и Пресвятого Духа…
— Господи Исусе, — вдруг в голос зарыдал Петр. — Ты прости меня, Господи!
Рыдание сорвалось, и тяжелый, переходящий в свист кашель опять затряс все его худое, сжавшееся тело.
— Поплачь, — мягко и нежно сказал старик, словно Петр чем-то растрогал его. — И страх твой слезьми выйдет, парень, поплачь.
— Помираю я, дед? — прошептал Петр.
— На все Его воля, — торжественно сказал старик и перекрестился. — Сказано в Писании: «Где сокровище твое, там и душа твоя будет». На все Его воля.
Он сел рядом с Петром, крепко обхватил его за плечи и изо всех сил прижал к себе. Лицо его стало восторженным и кротким: