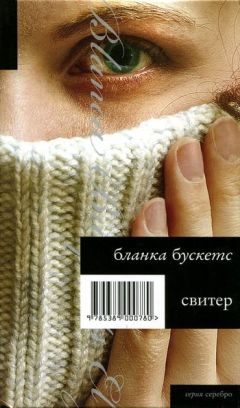— Слушай, это потрясающе! Спасибо тебе!
Дани благодарит Марти каким-то необычным тоном. Он прелесть, этот Дани. Наступила тишина, и Долорс догадалась, что за компьютером происходит нечто такое, чего она не видит. Не слышно ни щелчков по клавиатуре, ни разговора, едва различимы только неясные тихие звуки, происхождение которых остается для старухи загадкой — до тех пор, пока среди них не появляется один, слишком хорошо знакомый. Долорс остолбенела, и крючок замер у нее в пальцах. Господь всемогущий, не может быть! Звук повторился — такой же негромкий. Да, там творится именно то, о чем она подумала, в этом нет никакого сомнения. Это звук поцелуя — долгого, затяжного. Потом — снова голос Дани, а вслед за ним — Марти.
— С тобой это в первый раз, да?
— Да.
Слышно, как они поспешно выключают компьютер и встают. До старухи доносится шарканье шагов, и она вдруг замечает, что до сих пор сидит с открытым ртом. Спохватившись, снова берется за крючок. Мимо нее молнией проносится парочка: Марти впереди, Дани сзади. Это уже не прежний Марти, не ее внук, это кто-то другой, кого влекут вперед одни лишь инстинкты, те самые, бунтарские, как и у Терезы, только мужские. У Долорс часто-часто бьется сердце, никаких волнений, никаких переживаний, наказал ей врач, когда выписывал из больницы. А Леонор отвечала: не беспокойтесь, в моем доме ей будет спокойно, у нас никогда ничего не происходит, ах, Леонор, ты забыла, что у меня есть уши, которые прекрасно слышат. Марти и Дани скрылись в комнате внука — так и Сандра все чаще исчезает вместе с Жауме, этим пареньком с горячими руками: ей отлично известен график работы родителей, и она точно знает, когда может остаться с ним наедине.
А теперь и Марти туда же. Однако, ясное дело, тут случай посложнее. Как все воспримет Леонор, когда узнает? И Жофре, который всегда говорит о гомосексуалистах как о людях низшей расы и называет их не иначе как «педики», не в обиду Терезе будет сказано, поскольку, объяснил зять однажды, совершенно понятно, что Тереза — другое дело, потому что она женщина. С женщинами все иначе, поскольку они, если можно так выразиться, как бы становятся мужчинами. Напротив, «голубые» — это те, кто перестает быть мужчиной, так что, Лео, брось! Этот разговор завязался не так давно во время обеда, когда речь зашла об одном друге семьи, совершившем coming out, хорошо, что Долорс знакома с этой терминологией — спасибо Терезе. Долорс не помнила, какое выражение приняло в тот момент лицо Марти, просто не обратила внимания, ведь ей и в голову не приходило, что разговор может иметь к нему отношение, а сегодня все вдруг прояснилось: понятно, что такой чувствительный и ласковый мальчик должен быть не таким, как другие, только он смотрит на нее с нежностью и пониманием. Ясно, что он должен быть «голубым», чтобы понять меня, с легкой грустью подумала Долорс.
Как дружили Тереза и Жофре, пока однажды едва не вцепились друг другу в волосы! Это случилось дома у Долорс, когда у нее еще был свой дом, и собственные вещи, и своя кровать, и комната с любимыми книгами и письменным столом, в ящиках которого хранились все ее секреты. Я до него даже не дотрагиваюсь, мама, в самом деле, все лежит на своих местах, что ж, придется поверить дочери на слово, Долорс вовсе не хочет, чтобы кто-то вытаскивал на свет ее тайны, потому что они касаются только ее, а других могут шокировать. По крайней мере, Леонор. Да и Терезу тоже. Бедная Тереза, вечно погруженная в политику и феминизм, Долорс любила в ней потрясающую внутреннюю стойкость, это женщина, которая следует только велению своего сердца, которая делает только то, что считает необходимым, и никогда не предаст ни своих принципов, ни своих друзей. Но слишком уж она откровенна и зачастую ее слова идут вразрез с общепринятой точкой зрения, поэтому у нее так много врагов, а газеты и телевидение не оставляют ее в покое. Люди не выносят чужой откровенности. А Тереза говорила с Жофре совершенно откровенно, она сказала, что он уже не тот, что раньше, что он превратился в благополучного буржуа, приняв существующие правила игры. Она сказала это со смехом, но Жофре воспринял ее слова болезненно и ответил, что сама Тереза не может ужиться в обществе только оттого, что она — мужик в юбке, а мода на таких уже прошла. Долорс испугалась, что дело дойдет до рукоприкладства. К счастью, при этом скандале не присутствовал никто из детей, которые были еще малы и ничего бы не поняли. Зато присутствовала Леонор, которая не знала куда глаза девать. И, конечно, сама Долорс, она решительно вмешалась в ситуацию и сказала: ну хватит, я не желаю терпеть дома никаких свар, если собираетесь поубивать друг друга — убирайтесь на улицу! Они мгновенно замолчали, и, поскольку оба до сих пор живы, можно заключить, что за пределами дома они друг друга не поубивали, но с этого дня перестали общаться. Как отрезали. И больше никогда уже не разговаривали.
Пресвятая Богородица, тут поневоле растеряешься. Счастье, что дома больше никого нет, нужно сделать вид, будто ничего не слышишь, а это не так просто, потому что просто невозможно ничего не услышать, к тому же Марти единственный, кто не держит ее за глухую. Ну и шум они устроили, Долорс так разнервничалась, что уронила крючок на пол, и тот с металлическим звуком покатился по керамической плитке, но, ясное дело, этого никто не услышал, такую возню затеяли Марти с Дани. Теперь придется нагибаться… Беда в том, что она не видит крючка, потому что он того же цвета, что и пол. Да что же это такое — нигде не видно. Вот, кажется, что-то звякнуло под ногами. Ай, я теряю равновесие! Как же утомительно быть старой! Вот если бы она могла говорить и тело не было бы таким изношенным, потому что то, что открывается тебе в восемьдесят пять, невозможно увидеть ни в сорок, ни в шестьдесят… Когда тебе восемьдесят пять, видишь наконец жизнь такой, какая она есть, но к этому времени у тебя уже нет ни сил противостоять ей, ни возможности научить других это делать. Увы.
Долорс тяжело осела на пол. Хорошо еще, что успела перед этим согнуть ноги в коленях, так что просто плюхнулась задом и совсем не ударилась. Любая другая женщина в ее возрасте точно сломала бы шейку бедра, а у нее все обошлось, не зря травматолог сказал, что у нее на удивление крепкие кости, да, сеньора Долорс, хотел бы я такие иметь, они словно из дуба выточены и никогда вас не подведут, этот чертов врач считал, что она нуждается в его подбадривании. Все кругом обращаются с ней, словно с маленькой девочкой, все, кроме Марти, однако сейчас у него есть чем заняться, боже мой, какой скандал, ну да ладно, в любом случае он не появится, пока не завершатся эти безумные игры вырвавшихся из-под спуда страстей. И старухе так и придется сидеть на полу, потому что и думать нечего о том, чтобы подняться самой… Или все-таки попробовать? Однако сначала — крючок. Ага, вот он, голубчик, — отсюда нетрудно дотянуться. Теперь надо попытаться встать. Беремся за стул и пробуем. Ну-ка. Только вот нога болит — в том месте, где тромб, который потом оторвется, чтобы проделать свой путь к мозгу.
Давай, Долорс, подгоняет она себя. Давай, Долорс, — так говорил Антони в тот день, когда они пришли к нему домой — первый из череды многих и многих таких же дней, — они играли с огнем и знали это, однако в этом и состоит юность: играть с огнем, пока не обожжешься, рисковать по максимуму, перепробовать тысячи ощущений, чтобы решить, какие тебе больше по вкусу. Оба они сильно рисковали в той игре, ведь времена стояли другие, только что закончилась война, и она, собираясь туда, куда ходила, брала с собой корзинку — словно бы для покупок, — добрый вечер, приветствовали ее работницы, добрый вечер, отвечала она, а одна добросердечная женщина поспешила предупредить: уже все закрыто, сеньорета, вы ничего не купите! Ох, Долорс и не подумала, что лавка к этому часу закрывается, девушка покраснела до корней волос и ответила первое, что пришло ей в голову, я вышла посмотреть, созрели ли каштаны, — начинался их сезон, только на пути к дому Антони не росло никаких каштанов, вам будет лучше пройти через черный ход, сеньорета, так вас никто не увидит, днем раньше она смотрела на него глазами, влажными от нежности, желания и страха, и теперь, она знала это, Антони ждал ее у себя дома и трепетал: если в затеянной ими игре она поставила на кон свою жизнь, то он — и жизнь, и работу; кстати, эта идея с каштанами оказалась провидческой, поскольку возле черного хода, у той двери, что вела на небеса, оказалось полно каштанов — удачно, что именно это объяснение пришло ей в голову.
Вот этот дом, Долорс огляделась вокруг, ее окружали глухие стены — ни дверей, ни окон, одна лишь маленькая дверь, ведущая к Антони. У нее зуб на зуб не попадал, когда она быстро шагнула вперед, позвонила и немедленно, как только он открыл ей, вошла.
Долорс смогла-таки встать на ноги без чужой помощи. Браво, теперь она может сесть. Если бы здесь сейчас оказалась та женщина, которой велели за ней присматривать, она бы прибежала и начала бы причитать: что это вы затеяли, сеньора Долорс, совсем разум потеряли, на что старуха раздраженно ответила бы: вот уж кто точно утратил рассудок, так это вы, Фуенсанта, — это ж надо дать такое имечко! Фуенсанта — дочь ее бывшей служанки, той, что приехала с юга на заработки, а через некоторое время пристроила на свое место дочь; та, как и ее мать, не просто прислуживала, но и шпионила за Долорс. Как-то раз она застукала Фуенсанту, когда та подробно докладывала Терезе по телефону обо всем, что делала хозяйка дома. Да что вы себе позволяете, кричала вне себя от гнева Долорс, моя жизнь — это моя жизнь, и она никого не касается, а уж в последнюю очередь — моих дочерей. А ваше дело — грязь убирать, и больше никаких дел у вас тут нет! В тот день она ужасно разозлилась и хотела выставить Фуенсанту вон, но, увы, не могла, потому что не она ей платила, однако, когда в конце недели приехала Тереза, Долорс потребовала уволить нахалку. Фуенсанта молча сновала по дому с глазами, полными слез, которые демонстративно принималась утирать при приближении Долорс, — кажется, до нее дошло, что на сей раз у хозяйки действительно лопнуло терпение. Ах, мама, не сердись ты так, мы переживаем за тебя и поэтому спрашиваем Фуенсанту, как у тебя дела, что в этом плохого. Ты ведь тоже интересуешься у моей подруги и у Жофре, как поживает Леонор или я, верно? У Жофре — нет, автоматически ответила Долорс, Тереза коротко рассмеялась, и на какое-то мгновение они почувствовали себя сообщницами. Теперь Долорс ощущала себя виноватой, бедная Фуенсанта, служанка всего лишь присматривает за ней, должно быть, даже любит, а она ее обидела. Бедняжка! Долорс не знала, как загладить вину, не прося при этом прощения, потому что не умела этого делать, тем более — извиняться перед Фуенсантой, которая, что ни говори, мало чем отличалась от служанок прошлых времен в переднике и наколке. Целое воскресенье она маялась, голову себе сломала, но так и не нашла достойного выхода.