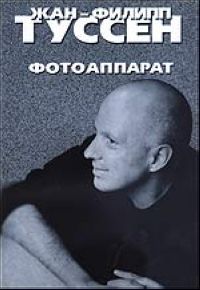Далее произошел незначительный инцидент, который мог бы остаться вовсе без последствий, однако, учитывая нашу безмерную усталость, спровоцировал кризис, короткий, но исключительно острый. Я шагнул к краю тротуара, чтобы в потоке машин отловить такси (даже если мы находились всего в нескольких минутах ходьбы от гостиницы, я предпочитал поскорее закончить прогулку), и одно из них, мгновенно повинуясь моему жесту, покинуло центральный ряд и подкатило к нам, автоматически распахнув заднюю дверцу. Держа раскрытый зонтик снаружи, я просунул голову в кабину — что было несомненной ошибкой, лучше бы я сразу сел — и сообщил водителю название гостиницы, два или три раза повторив адрес, указанный на имевшейся у меня визитной карточке: 2–7–2, Ниси-Синдзюку, Синдзюку-ку. Водитель, невозмутимый за своей прозрачной загородкой, оценил меня с одного взгляда — акцент, рожа, костюм — и, беспомощно улыбнувшись, дал отворот без суда и следствия, дверца сама собой захлопнулась перед самым моим носом, автомобиль тронулся в туман, оставив меня на тротуаре сетовать на мое невезение.
В бессильной ярости я попытался остановить другое такси, махнув рукой так неуверенно и робко, что шофер меня наверняка не заметил, и тут Мари, маячившая у меня за спиной, обхватив плечи руками, вся продрогшая, уставшая ждать, раздраженная моей нерадивостью, бросила язвительно, что, если я буду останавливать только занятые такси, мы никогда не доедем до отеля, а я обернулся и велел ей заткнуться. Она ничего не ответила. Замерла, съежившись, и впилась в меня испепеляющим взглядом потревоженного хищника. Я вернулся к ней, хлюпая пластиковыми сандалиями, в которые из-за толстых носков ноги мои не влезали целиком, пятки свисали наружу, и с каждым шагом я все глубже погружался в снег. Несколько минут мы шли молча, но при первых же словах Мари — в чем-то меня упрекавшей или на что-то жаловавшейся, не помню, не важно, мне сам звук ее голоса сделался вдруг несносен — я ускорил шаг, бросив ее одну посреди улицы. Зонтик хотя бы оставь, крикнула она, когда я уже маневрировал в толпе. Я вернулся к ней и протянул зонтик, наверное, слишком резко, или, может, она его неудачно взяла, не знаю, только он упал к нам под ноги ручкой вверх.
Подними, сказала она. Я молчал. Она повторила: подними. Я смотрел на нее в упор, прямо в глаза, недобрым взглядом. И не шевелился. Мы стояли на тротуаре с двух сторон от лежащего вверх тормашками зонтика, мимо проходили люди, смотрели на нас с недоумением и шли себе дальше, некоторые еще оборачивались напоследок. Я не двигался. Я чувствовал, как у меня пульсирует кровь в висках, мне хотелось ее ударить. Мы оба словно окаменели, а в нескольких метрах от нас лениво капал растаявший снег с полотняного козырька над входом в кафе. Люди за столиками все видели, смотрели на нас через стекло, я чувствовал на себе их взгляды. Но мы не двигались. Поднять зонтик после всего было немыслимо ни для нее, ни для меня. Собравшись с духом, я развернулся и молча зашагал прочь. Мари поплелась следом, и мы продолжили суровый переход, оставив раскрытый прозрачный зонтик лежать ручкой вверх в снегу.
Мы шли в толпе рядом и, как могло показаться, вместе, в одинаковых белых шерстяных носках, с одинаковыми глупыми красными и синими каемками, но каждый мусолил про себя свои собственные злые мысли и на свой лад пережевывал инцидент. Шли молча — мы больше не разговаривали между собой. Время от времени я украдкой на нее поглядывал. Не важно, кто был виноват, скорее всего, никто. Мы любили друг друга, но не могли больше друг друга выносить. С нашей любовью случилось вот что: в целом мы давали друг другу больше хорошего, нежели плохого, но это немногое плохое сделалось нестерпимым.
Мы остановились на мосту, я смотрел, как занимается день. Занимался день, и я думал о том, что нашей любви пришел конец, я словно бы видел, как она тает у меня на глазах, отступает вместе с ночью со скоростью времени, заметной лишь тогда, когда ее замеряешь. Наблюдая за неуловимыми изменениями свето-цветовой гаммы на голубоватых стеклах башен в Синдзюку, я обнаружил поразительную вещь: переход от ночи ко дню осуществлялся не в свете, а в цвете. Темень не рассеялась, но из густо-синей ночной превратилась в тускло-серую гризайль снежного утра, и все огни, которые я видел вдалеке, — освещенные небоскребы на подступах к вокзалу, лучи фар на улицах и бетонных ограждениях автострад, шары фонарей, разноцветный неон магазинов, белые полоски света в окнах зданий — все еще горели в ночи, ставшей днем.
Мари молчала, мы оба замерли, словно прикованные к металлическому пешеходному мосту над железной дорогой, ведущей к вокзалу Синдзюку. Внизу беспорядочно сплетались электропровода, кабели высокого напряжения, цепные крепления, стальные сходни, нависавшие над путями. Под нами с регулярными интервалами проносились ярко освещенные, набитые пассажирами поезда метро, их появлению предшествовал грохот, сотрясавший мост, иногда проезжал товарный состав, потом в бледном свете дня снова молнией пролетала белая электричка. Перед вокзалом Синдзюку, видневшимся вдали, тысячи и тысячи людей толпились под снегом у входа в главное здание, целое море зонтиков, гонимых течениями в противоположные стороны: один поток вливался в вокзал, другой извергался наружу, в то время как поперек им подспудно формировались более мелкие струйки из отдельных граждан, протискивающихся наперекор остальным к кассам или входу в метро. За вокзалом поднимался островок высоких стальных конструкций, отелей, магазинов с плоскими крышами, утыканными антеннами, с фасадами, увешанными поверху гигантскими экранами, с которых изливалась реклама размытых на исходе ночи тонов. Мы пошли дальше, все так же молча, и, не дойдя до конца моста, я повернулся к Мари, тихо хлюпавшей по лужам со мною рядом под непрестанно сеющейся на город снежной изморосью, мне хотелось сделать какое-то движение ей навстречу, тронуть ее за плечо, взять за руку, но тут я почувствовал, как в голове у меня что-то пошатнулось, и стал вдруг слышен нарастающий грохот невидимого поезда, он мчался, сотрясая все на своем пути, гремя металлической решеткой парапета, подрагивающего в снопах голубоватых искр и огненных вспышек, вылетевших на моих глазах из коробки трансформатора под нами, трансформатора, взорвавшегося в клубах черного дыма, поваливших на рельсы, где пытался экстренно затормозить на полном ходу состав, а обернувшись на секунду, я увидел, как на середине моста под ходуном ходящими фонарями прохожих качнуло всех в одну сторону, будто на палубе судна, приподнятого огромной мощной короткой волной, причем некоторые, теряя равновесие, ускоряли шаг, словно бы в погоне за зонтиком, другие приседали на корточки, а большинство остановилось, застыло, точно парализованное, защищая голову рукой, портфелем, кейсом. И на этом все. Ничего другого не последовало. А еще каких-нибудь тридцать секунд или минуту спустя, минуту испуга и сосредоточенного ожидания, за которую не произошло ничего, никто не шевельнулся, каждый ушел в себя, валялись там-сям портфели, а люди, скрюченные, бледные, мокрые от снега, ждали, приготовясь съежиться еще больше, опасаясь худшего, повторного толчка, возможно куда более сильного — земля сотрясалась уже второй раз за несколько часов, ее могло тряхнуть снова в любую секунду, угроза отнюдь не миновала, — спустя минуту все постепенно разогнулись и разошлись, рассеялись по мосту, и только где-то далеко в сероватом утре незримо лаяла собака.
Мари сдавленно вскрикнула и бросилась ко мне, дрожа всем телом.
Мы прошли несколько шагов как потерянные, в мокрой одежде, покривившихся тапочках, в одинаковых белых шерстяных носках, и укрылись в углублении, своего рода полукруглой нише на мосту, откуда металлическая аварийная лестница почти вертикально спускалась к железнодорожным путям. Мари плакала. Она плакала у меня на груди, содрогаясь от рыданий, прижимаясь ко мне изо всех сил с трясущимися руками и влажным от слез и снега лицом. Неописуемый испуг, усталость, нервное истощение, дикое напряжение всех чувств в течение этой ночи выплеснулись в необоримую потребность в утешении, жгучую жажду телесного единения и расслабления. Мари плакала и льнула ко мне, в мокром платье, с мокрыми волосами, тянулась губами к моим губам и спрашивала, дрожа, почему я не хочу ее поцеловать, а я успокаивал ее, держа в своих объятиях, гладя по волосам и плечам, и отвечал тихим голосом, что никогда не говорил, будто не хочу ее поцеловать, никогда. Но я ее не целовал, не склонялся к ней для поцелуя, не ласкал, не утирал слез, и между нами повторился диалог, уже состоявшийся несколькими часами раньше в гостинице, тот же вопрос и тот же ответ, и с той же горячностью и безысходностью в голосе Мари воскликнула, подняв ко мне лицо: так почему тогда ты меня не целуешь? А я не ответил, не знал, что отвечать, я прекрасно помнил, что сказал тогда в гостинице, но сейчас, после пережитого нами шока, не смел произнести, что не хочу ее целовать и не целовать тоже не хочу, она бы взбрыкнула, возмутилась, стукнула бы меня, расцарапала бы лицо. Ко мне в объятия ее бросило отчаяние, она искала тепла моего тела, а не моей изысканной диалектики, ей начхать было на словеса и умозаключения, она ждала сердечного порыва, ласки рук и языка, жаждала почувствовать меня всего. Разве я этого не понял? Одному Богу известно, как меня тянуло ее поцеловать — сейчас, когда мы расставались навсегда, куда больше, чем когда я поцеловал ее впервые. Она жалась ко мне все сильней, и я догадался, что оставшееся неутоленным желание, наше неполное соединение этой ночью, прерванное, незавершенное, требовало выхода — только так она могла избавиться от накопившегося напряжения. Чтобы преодолеть усталость, расслабиться, успокоить нервы, ей надо было испытать оргазм немедленно, кончить прямо сейчас, и у меня в эту минуту возникло ощущение, что я держу в объятиях незнакомую женщину, виснущую на мне, мокрую от вожделения и слез, обвивающую меня ногами в недоброй решимости получить наслаждение, страстность ее желания пугала меня, я чувствовал, как она ищет мои губы, отрывисто дыша мне в ухо, как она стонет, словно мы уже совокупляемся на глазах у толпы, идущей мимо нас по мосту. Земля содрогнулась под нами, и вот Мари, не обращая внимания на прохожих, похотливо терлась об меня, лихорадочно задирала мою футболку и массировала живот, припирая меня к парапету, потом она схватила мою руку, направила себе под платье, повела вверх по ноге, и на меня пахнуло жаром ее плоти, я почувствовал в льнущем ко мне дрожащем, окоченелом и мокром от снега теле обжигающее тепло, почувствовал огненную близость ее истекающего желанием влагалища, просунул руку ей в трусы, ощущая влагу наэлектризованной вульвы, сокращавшейся у меня под ладонью, занимался день, и я хотел ее теперь очень сильно, я вжимался в нее в свете зарождающегося дня, ласкал ее промежность, мял ягодицы. Над Токио занимался день, и я засунул палец ей в задний проход.