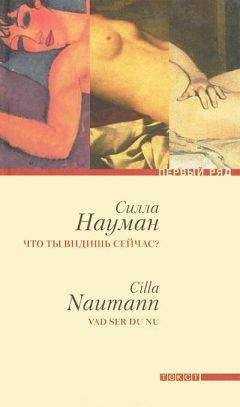Принцип, по которому открывается моя шкатулка с тихим утром на Уддене, я не могу объяснить, но ее пружины срабатывают снова и снова. Возможно, этого утра никогда и не существовало в действительности, и я не спускалась утром в зал в сонном доме, не сидела, пождав ноги, на старом коврике, не вдыхала запах остывшего кофе и не видела колоду карт. Может, Ингрид и Анна никогда не спускались сюда, открывая дверь, а звуки радио я слышала в другой день. Память живет своей жизнью, отдельно от человека. Некоторые эпизоды, места и лица сплетаются в нашей памяти в единое целое, и как они отзовутся в наших сердцах, мы предугадать не сможем.
Такими же обрывочными фрагментами в памяти мелькают улицы Стокгольма и бары, в которые мы частенько заглядывали. Вот архитектурное бюро, в котором проходила моя первая практика, задания по проектированию сотен однотипных домиков для отдыха до сих пор вызывают у меня судороги в правой руке. Представляются смутные картины домов, в которых я жила первые годы после рождения дочери. На улице стемнело, наступил холодный вечер. Я улыбаюсь потрескавшимися от мороза губами своему прошлому.
В моем настоящем в Стокгольме наступила осень. Воздух прозрачный и ясный, клены и каштаны окрасились во все оттенки желтого. Случайно я вижу выходящую из магазина мать Анны. Ингрид стала меньше ростом, но мало изменилась. Она оборачивается на мой окрик, ее лицо озаряется радостью, и по моему телу разливается приятное чувство, что меня помнят, что ничего не изменилось, хотя прошло много лет с момента нашей последней встречи.
— Давно не виделись, как поживаешь?
Кто-то из нас произнес эту избитую, но обязательную в таких случаях фразу, мы внимательно разглядывали друг друга, отмечая, как сильно изменился собеседник. Глаза Ингрид подернулись тонкой голубой пленкой, рука, по всей видимости, двигалась с трудом и болью, но улыбка и голос остались прежними. Мы, конечно, говорим о детях. Я рассказываю о своей дочери, она о своих дочерях, в основном об Анне.
— Сейчас у нас одиннадцать внуков, — радостно сообщает Ингрид и указывает на сумки. — Здесь в городе легко все купить, а летом на Уддене готовить приходится на огромную компанию, сама понимаешь, — улыбается она и добавляет: — Дочки Анны тоже были здесь прошлым летом… одна из них…
— А Анна не приезжала? — интересуюсь я.
— Нет, — Ингрид покачала головой. — Анны не было… Но Иса приезжала из Парижа. Она похожа на Анну… загадочная и особенная… Такая же одаренная… Я думаю… Но она не любит этого слышать… В любом случае она была рада приехать… Ей хорошо здесь, и это главное, а об остальном я не расспрашивала… Было просто здорово, когда она приехала… как будто Анна побывала с нами… И папа… да ты знаешь, он всегда так беспокоился из-за Анны и так трясся над внучкой, так опекал ее… Он сильно изменился, когда девочка была здесь.
Внезапно в зале пробили часы. Из окна дул холодный ветер, обещавший дождь, который наверняка хлынет еще до ужина. Анна зашла в зал, заслонив глаза от солнца рукой, окинула взглядом бухту, села на диван и принялась бесцельно тасовать карты. На ней был мой розовый джемпер из ангорской шерсти, он очень шел к ее рыжим волосам. Последний вечер на Уддене. Легкое беспокойство по поводу отъезда и ожидание приятного путешествия.
Ингрид спешила, поэтому пригласила меня в гости в самое ближайшее время и, подхватив сумки, добавила, что было бы неплохо проконсультироваться с настоящим архитектором.
— Пока, было приятно повидаться, — попрощалась она и протянула мне руку — холодную, тонкую, испещренную коричневыми пятнами и веснушками. Мы разошлись, но я повернулась и посмотрела ей вслед. Радио на полке в зале умолкло, солнце скрылось за облаками.
Придя домой, я попыталась отыскать прошлогоднее письмо Анны. Где там были ее дочери? Но так его и не нашла.
* * *
Несколько лет спустя мы встретились с Ингрид еще раз. Она окликнула меня, когда мы почти прошли мимо друг друга. Мать Анны сильно изменилась: глаза стали совсем бесцветными, щеки запали и пожелтели, волосы истончились и высохли, как солома.
Мы стояли на тротуаре в толпе, сконфуженные и смущенные. Сказали друг другу, что рады встрече, но потом замолчали, слишком ясно все было написано на ее лице.
— Нам не так много осталось, — проговорила Ингрид с горькой усмешкой. — Всегда думаешь, что еще много времени впереди, что годы бесконечны, но это не так… Жить стало скучно, ведь он больше не живет дома… Он в доме престарелых с Рождества… Удар… Наше время уже уходит. — Пожилая женщина странно рассмеялась и сжала мою руку.
Вернувшись домой, я достала коробочку с часами и, развязывая шнурок, слышала голос Ингрид и ее печальный смех. Коробочка была потрепанной и помятой после долгого пребывания в шалаше на сосне, но красивые часы уцелели и начали тикать, как только я завела механизм. Анна положила их на самое дно моего рюкзака вечером перед отъездом. Мы часто рассматривали их и недоумевали, кто такая «Йоханна». Ее имя было выгравировано вместе с датой на корпусе часов маленькими изогнутыми буквами, как подпись маленькой девочки.
В рюкзаке часы пролежали много лет и нашлись только при переезде. Я была беременна и двигалась медленно. Пыльный рюкзак валялся за ящиками вместе со старыми рисунками и вырезками в темном и узком чулане в Черрторпе. В ту самую секунду, когда увидела зеленый шнурок, я уже знала, что скрывалось внутри. Моя тайная шкатулка, скрипя пружинами, снова открылась.
Внутри нее стояла Ингрид в своем истертом до дыр купальном халате и улыбалась мне, сонная и загорелая, еще мокрая после утреннего купания, и говорила, что пора пить какао. Она протянула руку к радио. «Мы должны послушать про бурю». На ее загорелой руке белый след от часов, на который я раньше не обращала внимания… Внутри меня толкнулся младенец…
Передо мной Анна, которая приходит в себя в залитой солнцем гостиной, складывает подтверждение о поступлении в Художественную школу и говорит:
— Эх, мы же поедем путешествовать… Ты и я… Осенью нас здесь уже не будет.
Мы облегченно смеемся, я ухожу домывать тарелки на кухню, и мы больше никогда не возвращаемся к этому разговору.
Я выхожу на балкон, коробочка с часами лежит в кармане. Я щурюсь от солнца, только что вышедшего из-за облака, и вспоминаю о паромных прожекторах, освещавших сосны в ту последнюю ночь на Уддене. В глазах Анны красные отблески, а вокруг необычайная тишина, в которой проплывает огромное тело корабля, как будто лес, скалы и вся бухта задерживают дыхание, чтобы он смог проплыть.
Как же я могла до самого последнего нашего вечера не замечать, что паромы проходили ночью так близко, что за Удденом есть канал? На что еще я не обращала внимания?
Анна, я и наша поездка. Не было «до» и «после», никто не махал нам рукой на прощание. Первые открытки домой мы отправили прямо из Копенгагена, чтобы все знали, что мы уехали. Про письмо с подтверждением поступления Анны в Художественную школу к тому моменту я уже забыла.
Анна уехала в декабре того же года. Я отправилась к своим родителям в Сундсваль на Рождество, а вернувшись, узнала, что она начала учиться в Художественной школе. По словам одного нашего друга, это просто невероятная удача, что приемная комиссия разрешила Анне отсрочить начало учебы и приступить к занятиям после Рождества, о чем она просила еще летом, до нашего путешествия. Все знали об этом, кроме меня.
На улице я увидела свою дочь, возвращавшуюся из школы с приятелем. До меня доносился звук ее голоса. Она смеялась и размахивала руками. На другой стороне улицы голые деревья тянулись к небу, пожухлая листва была разбросана по дорожкам в парке.
Никогда не знаешь всего о другом человеке, пусть даже самом близком. Я не знала, о чем говорит или думает моя дочь на улице, каким она запомнит этот день, будет ли вспоминать именно его, когда вырастет. Напрасно думать, будто она чувствует то же, что и я в ее возрасте. Чужая душа — потемки, о многом люди вообще не говорят. Не потому, что это великие тайны, — просто об этом не принято говорить. Все равно они складываются в то, что и является нашей жизнью, — в эдакую паутину памяти, и можно только гадать, что именно в ней останется. Со временем свет падает на новые нити и узелки этой паутины и внезапно высвечивает все новые цвета и узоры в плетении, детали, о которых человек раньше и не подозревал.
Шероховатая коробочка лежит в моей руке. Она много лет хранила имя незнакомой девочки. Я хотела высунуться в окно и кинуть ее Ингрид, вернуть то, что было отнято у нее давным-давно. Мне хотелось крикнуть ей через весь город, деревья, залив, остров. Но я не могла кричать с балкона, это сильно удивило бы мою дочь. Однако не было сил и набрать номер Ингрид, потому что я не знала, о чем еще с ней говорить. Мы уже обняли друг друга и простились без слов, неумолимая печать на ее лице не оставляла ни малейших сомнений в том, что ее ждет. По потухшим глазам этой женщины я видела, что нам нечего больше сказать друг другу.