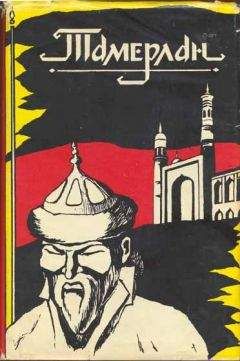Еще через полгода у нас с ним установились отношения почти дружеские; а более близкими - что должно ощущаться и по тексту - уже не стали, видимо, это было бы возможно только для его коллеги: здесь он словно кончался как человек, далее существовал уже профессионал. Тем не менее, и этой степени отношений было довольно, чтобы оказаться в курсе его работы: с той поры я видел все его операции. Обычно он заводил меня в операционную сразу по окончании, без ведома, конечно, модели, в тот момент находившейся в бессознательном состоянии на столе. Употребляемый здесь термин "модель" уместен: лежащее на белой плоскости тело требовало именно этого слова. Не следует усматривать в поведении МТ бестактность - в тот момент на столе лежала вовсе не женщина, нечто совершенно иное.
Ну, конечно, это оставалось телом, разумеется - женским. Но женским телом это быть не могло - не только из-за его безучастности. Конечно, можно было считать это артефактом, ничего что дышащим; это не было артефактом, так как последний должен был возникнуть лишь с возвращением к женщине сознания. Это был какой-то промежуточный объект.
Не могу сказать, что он навязывал им какую-то другую жизнь: характер этой другой жизни зависел, все же, не от него, но от самой женщины - он не сделал бы с партнершей что-либо, не находящее соответствия в ней самой: не случайны, разумеется, были все эти предварительные их разговорчики, не сводимые к акту предварительного технологического исследования материала и планирования хода работ. И уж не об использовании в рисунке всех характерных линий, родинок, морщинок тела шла речь: в разные периоды он мог использовать, а мог и не обращать внимания на эти телесные данности. Может быть, выявлялось, что такое теперешняя партнерша, но и это не вполне так, партнерша после уже весьма слабо соответствовала себе до. Вряд ли дело было в разгоне себя до наития - что бывало, но не было системой: ему случалось исполнять работу за день, за три часа, за тридцать минут, а иногда - в несколько сеансов, возился чуть ли не месяц. К тому же в разные периоды он использовал себя по-разному - когда включая свои ощущения в работу, например - по его словам, за работой я никогда его не видел, да и никто само исполнение рисунка могло опираться на ритм его дыхания, меняющегося в ходе работы. А иногда - внимания на себя не обращал намеренно и тщательно.
Что-то из них существенное вытягивая, он вовсе не заворачивал, не упаковывал их в это. Он не задавал, скажем, не программировал им следующую жизнь, хотя бы потому, что та внутри них уже содержалась, а если бы ее там не было - так не было бы и работы. Себя, повторю, он им не навязывал: в той мере, в какой себя при подобной процедуре удается не навязать.
Происходило, по крайней мере, что-то, в результате чего они больше не появлялись, или - как уже говорилось - заходили по вполне конкретным делам; мне не хотелось бы описывать, как именно они выглядели после, другими: они выглядели жутковато. Они были уже что ли не людьми.
Ну как - не людьми... Здесь приходится употреблять уже опыт личного общения с прошедшими МТ - с некоторыми познакомился там, с кем-то из неизвестных мне - позже, их оказалось очень легко опознать, даже на улице, именно по... да просто взглянуть - и все понятно.
Они уже не составляли целое со своим телом: тело было для них не то чтобы инструментом, аппаратом для их перемещения по земле и, вообще, жизни тут, чем-то вроде скафандра. Тело становилось карнавальным костюмом, а душа - телом под ним, ну, и т. д., заполняя смежную вакансию. Не стоит и пытаться сказать, как именно чувствует и ощущает себя человек после, пересказы не помогут, а личным опытом рассказчик не обладает. Нельзя, впрочем, говорить, что они отчуждались от тела, скорее, напротив - между ними и телом возникала какая-то новая связь, жизнь самого тела вовсе не затрудняющая. Здесь, неладно об этом говорить, но что поделать, приходится сказать, любовь с такой женщиной казалась невозможной - она, нагая, являла собой живой артефакт, само приближение к которому, сближение было - не потому что мраморная или картина: потому что ты сам не такой, а всего-то обычный человек - неуместным и глупым: они были точно какие-то высшие существа. Впрочем, здесь помогало просто выключить свет. Ощущение линий, конечно, сохранялось: словно шурша слегка по сухому пороху, по тоненькому песчаному рисунку, впрочем, испарина вскоре укрывала его.
В разные периоды он по-разному относился ко времени, к профессии, к телу как к таковому, к партнершам; впрочем, что за ерунда - потому периоды и возникали, что менялись отношения. Какие-то из них я забыл, о других рассказал он. Началось все, прости господи, чуть ли не с банального разукрашивания, вполне в цеховом духе, от коллег он тогда практически не отличался; затем возникли попытки перевода в рисунок личных отношений с тогдашними девочками: что оказалось возможным, благодаря его техническим способностям - отличие его от коллег стало очевидным именно здесь; желание запечатлеть личные отношения переросли в желание фиксировать отношения не с моделями, но с их телами - с нежностью и лаской желая их и украсить, и обезопасить как-то их владелиц, помочь им чем-то. Эти работы почти все теперь расползаются, но, может быть, это просто случайность. Потом настал период ненависти и к профессии, и к телу: какая-то кричащая, орущая кожа рисунки от тела отчужденные, виртуозно исполненные: какие-то демоны не демоны, ведьмы не ведьмы, совы, черти, нечисть, какие-то зооморфно-хтонические гибриды; а затем - прямое, нефигуративное, обезображивание тела подчеркиванием, усилением его отдельных несоразмерностей и черт; прямое внедрение на кожу элементов, скажем, антиэстетических, частые кривые и пилообразные линии, пятна отдельных цветов - тогда он работал по преимуществу монохромно, холодными или болотными цветами, впрочем, его синий никогда не напоминал чернила. Это постепенно потащило за собой почти символику: какие-то не декоративные геометрические фигуры и орнаменты, что потребовало полихромность - золото и серебро использовать начал он, а прочие - переняли, когда сам он от этого отошел. В результате, постепенно перемещаясь внутри этой техники и мышления, он выбрался из минуса в плюс, надрыв оказался изжит работой, и эти условно-полумистические штуки стали изображать вещи уже вполне приятные.
Зная о его метаморфозах, я задумался о том, насколько перемены его отношений к телам партнерш сказались на жизни последних. Оказалось - никак. Странно, ведь... такая разница. Оказалось, что неважно: он делал объект, артефакт - женщина отчуждалась от своего тела, на его кожу переходило что-то ее тайное, скажем, душевное, и в каком виде это оказывалось вне, снаружи, на поверхности - было неважно. Она теперь могла забыть об этих своих душевных особенностях, они ушли из невидимости на тело, вросли в окружающий воздух обо всем этом она могла теперь позабыть, все это существовало само по себе: освободив какие-то полости, в теле что-то переменялось, возникало ощущение холодной пустоты - то именно, что пугало при первой встрече с каждой из них, пока не удавалось ощутить наличие какой-то другой заполненности. Так, верно, испугал бы человека, привыкшего к рококо, интерьер, где только и вещей, что белые стены, да циновка на полу.
Не знаю, как он сам все это понимал, - на нем, разумеется, рисунков не было никаких: кому бы он доверился лечь, под чей нож? Не знаю, может быть, это такое его несчастье - жить, не имея возможности применить свое умение к себе самому. Впрочем, абсолютно чистым его тело не было: какие-то отдельные засечки, пунктирчики, образовавшиеся сами собой от случайных порезов или проверки, как заточен инструмент. Вообще, это серьезно - хотел бы он иметь своим пациентом себя?
Ну вот, после того как пошли материи приятные, стилистические изменения поначалу не возникли - все те же отдельные, метафизически отдельные рисунки, не только, впрочем, орнаменты, но и линии более живые и прихотливые. А затем, видимо, власть в нем захватили руки, начались совершенно безумные всплески - от долгих гладких, путаных выпуклых линий, через какие-то сецессионные черные лилии и невероятно распутную - трудно подобрать слово точнее - их общую ритмику к уже совершенно, в шестом поколении барочному выплеску, хору, взрыву, грохоту красок и фигур: он словно задался изобразить на человеке абсолютно все - на коже тогдашних партнерш не оставалось ни сантиметра, свободного от рисунка, какие-то атласы всевозможных миров. После - то ли глаза устали, то ли еще что - произошел переход к тоже цветной, но уже иной работе, отдельными плоскостями тяготеющей (через, впрочем, краткий период почти мультипликационных фигурок) к чистым отношениям цветных, гладких плоскостей, участков тела - уже почти абстрактных единиц, но создающих какой-то вполне отчетливый рисунок в сумме тела, рисунок, участвующий в постоянном диалоге с ним. Далее, цвета вновь блекнут, едва сохраняя пигмент, сходятся к серому, впрочем, растр фотографии он не имитировал никогда, не был ему свойствен и пуантилизм, равно как, на самом деле, и любая символика. Все это спровоцировало его на очень сложную игру с самой работой - что описать крайне трудно, разве что привести пример его тогдашней работы, одного из очевидных шедевров: партнерша была очерчена, просто обведена миллиметров в пять-семь шириной не очень, якобы, старательной черной линией - от темечка вниз, обойдя губы справа, к впадинке между ключиц, по правой ключице, по руке и далее, через подмышки, между ног; очертив тело, линия вышла к торчащему на шее позвонку и поднялась наверх, затерявшись в волосах, возможно, замкнув себя. Это была его предпоследняя работа из мне известных. Сам же факт прекращения им практики и последовавшего исчезновения не был отмечен никаким драматизмом, да и, честно говоря, не был замечен вовсе: он и ранее иногда отсутствовал неопределенное время, возвращался, работал дальше. Точно так же и теперь возвратиться он может хоть сегодня.