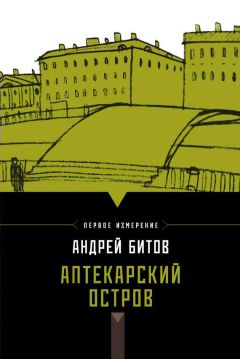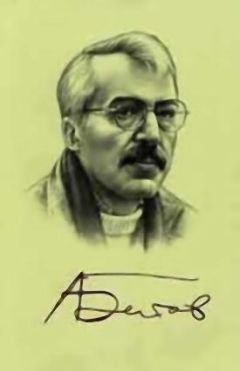Тут я почувствовал, что меня взяли за руку. Сердце мое забилось. Я взглянул на спутницу и поймал тот очень женский взгляд, который равно можно было расценить как сомнение и интерес, сочувствие и насмешку…
— Пойдем, — сказала она.
Я наконец попал на старую ереванскую улицу. Старая — не то слово: ни тысячелетиями, ни столетиями тут не пахло. Возможно, ей было лет сто. Двух- и трехэтажные дома стояли вплотную, с оплывшими, кругловатыми линиями оконных проемов, и смотрели подслеповато, как близорукий без очков. Их попытки быть прямыми и неглиняными выглядели наивно. Наверно, это была прежде и не из бедных улиц — так, может быть, выглядели улицы губернских городов, вливавшиеся в главную. Архитектуры никакой на улице не наблюдалось. Дома напоминали старинные холодильники, когда еще электричества не было, а в оцинкованные ящики закладывался привезенный разносчиком лед… Глубоко посаженные и небольшие окна подсказывали тень в комнатах и послеобеденный сон. Стены выглядели пухлыми. Они казались нарисованными рукой ребенка. Иногда строчка окон сползала вниз, как у ленивого ученика… Прохожих не было.
— Смотри!
Чуть согнувшись, я заглянул под арку. Нагибаться, впрочем, не было нужды: человек нормального роста вполне мог бы пройти сюда выпрямившись. Но не так казалось. Еще и потому, что тут была логика заглядывания и подглядывания… Как в щелку, как в скважину, как в тот оптический глазок, придуманный в дверях кооперативных квартир, где ты видишь гостя в немыслимой перспективе, а он, по-видимому, — твой ужасный глаз.
Тенистый и глубокий туннельчик с округлым сводом был как тубус и диафрагма, а дальше с неправдоподобной, оптической четкостью был виден двор. Так не бывает прозрачен воздух, как он был прозрачен в этом дворе. Двор контрастно с входом был ярко освещен, но, казалось, не тем назойливым и тупым солнцем, что пекло на улице наши спины. Свет был ровным и успокоенным. Вправо шла лесенка, четыре выщербленные крутые и узкие ступени, нелепые перильца с завитушкой на конце… Дальше трое ребят играли в забытую мною игру — крашеные бабки валялись на земле… Еще подальше какая-то верандочка с пристроечкой, виноград свисает с решетки, кто-то спит на топчане… Дерево высунулось из-за угла справа, нависает… В небольшой тени печечка дымит, шуршат угли… Черная бабка в конце двора не то что-то собирает с земли, не то, наоборот, рассыпает…
Есть вещи, про которые невозможно сказать, что ты их когда-то увидел впервые, — они у тебя в крови. Я видел такой дворик впервые, но это фраза для протокола. Я знал его всегда — и это будет гораздо точнее. С таким чувством человек возвращается на родину: одно дерево сломалось, а тот куст как разросся! Все умерли… Неужели эта Маша такая большая, ведь я ее на руках носил! А эту бочку я помню — неужели до сих пор цела… Припадаешь к земле. Ты все еще жив, старый хрен!..
Мы шли и заглядывали в эти глубокие воротца… Я забыл о спутнице, хотя то, что она была рядом и знала, что показывала, и я был все-таки не один со своим немым восторгом, тоже незаметно что-то означало.
Ни один двор не повторял другого, но ни один и не отличался, казалось. Ни один не был красивее или интереснее другого — каждый был совершенен. Как, каким образом складывался этот хаос пристроек, тупичков, деревьев, света и тени в гармонию и художественное единство — ни проследить, ни предположить было невозможно. Видно, жизнь, организуясь сама, по своим неумышленным законам, не может создать несовершенной формы…
Такую глубину и прозрачность можно было вспомнить только у старых голландцев. Беременная женщина читает у окна письмо… Какой свет! О, они понимали, что такое рама, что такое окно! Насколько серьезнее и самостоятельнее мир, в который ты выглядываешь, мир обрамленный, чем мир на улице, на дороге, в поле… В раме — это уже понятие, мысль о мире.
Так выглядел каждый двор в раме черного проема ворот.
Вот уж — «здесь жили люди»! И никакой абстрактной штуковины не надо. Жили, любили, рожали, болели, умирали, рождались, росли, старели… Кто-то штукатурил стену, кто-то выносил треногий, лишний в домике стол, кто-то посадил цветочки, кто-то разрушил сарай и расчистил площадку, а кто-то построил рядом курятник. Двор рос, как дерево, — отмирали старые ветви, вырастали новые тупички, — а у дерева не бывает несовершенного расположения ветвей, хотя где гуще, где реже, где криво, а где обломано, но — дерево! В кроне чирикают дети, подпирают ствол влюбленные, и бабка черная, согнувшись, возится у корней — растопляет печку, поднимет щепочку и уронит. Перспектива поколений, каждый двор как генеалогическое древо…
И смысл жизни до тебя и после тебя наконец ясен.
От каждого проема не оторваться, но и подглядывать нельзя. Но и следующий — пока идешь к нему, нельзя поверить даже, что может быть так же хорошо… но и следующий, когда заглянешь, — как вздох, вздох облегчения, вздох встречи, вздох нерасставания и какая-то непонятная сладкая вера в возможность и твоего счастья…
Никакой исторической и архитектурной ценности ни эта улица, ни эти дворы не имеют. Она будет снесена, и тут встанут новые, удобные во всех отношениях здания, в них поселятся люди, они будут любить, рожать и умирать, страдать и радоваться. Но не знаю, будут ли через сто лет эти стены настолько же прогреты теплом и любовью, жизнью и смертью, чтобы, только свернув за угол и ступив первый шаг, ощутить такое же родство и счастье, как сейчас на этой глиняной невнятной улочке?.. Или все отразится от матовых и блестящих, ровных и плоских плоскостей?..
Мы ценим человеческий труд, и мы его еще мало ценим. Но ценим ли мы то, что еще драгоценней: то, что есть, что получилось без нас, без нашего участия, — великую гармонию и искусство природы и времени? Доски, конечно, дороже несрубленной сосны. Но — в денежном выражении! Не надо смешивать стоимость с ценностью, дороговизну с драгоценностью… Самое гениальное творение рук человеческих однозначно и частно в сравнении с природой. Это правильно и чисто взятый аккорд, подслушанный и занятый у абсолютной гармонии и полифонии жизни. Гармонию не измерить стоимостью. Автомобиль никак не дороже полянки, на которой мы сделали привал… И никакими усилиями не сотворим мы раннее утро, не подделаем восход, росу, былинку… Ни один художник не сможет одной лишь силой воображения так естественно разбросать избы, сараи по отношению к реке, дороге, лесу и небу, как разбросаны они в любой деревеньке; не сумеет поставить где надо одинокую корову или лошадь, стог или ветряк, надеть в правильной последовательности банки и крынки на колья покосившегося плетня. Даже покосить как надо плетень он не сможет! Он может лишь подглядеть.
Великий учебник гармонии отдан нам жизнью бесплатно, безвозмездно. И мы должны помнить, что, если мы вырвем все листы, нам Не по чему будет учиться.
Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала?
Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?
На этой глиняной улочке, нагнув шею, заглянув во дворик, я увидел наконец такой Ереван. Поэт не мог быть неточен…
Что остается в предметах от человека? Только ли форма, им приданная, или — тепло рук, прикосновение взглядов, вмятины от слов?.. Тут все говорило языком жизни — бывшей и будущей, — вечной жизни… Я решался — я входил во дворик, и из всех дверей выбегал любящий меня народ — прадеды и прабабки, правнуки и правнучки… Будущие и прошлые люди обнимали меня и выстраивались безмолвной шеренгой, ласково сокрушаясь, и кивая, и жалея меня, пока я шел мимо них и плакал от скорби и счастья.
Петербург создан для прогулки: он как парк, он как зал. Зал и парк. Но — погода. Болото, миазмы, лихорадка, инфлюэнца, насморк — постоянный упрек Петру, — и мы вступаем в нашу эпоху уже гриппа, чихаем. Гулять есть где, но — некому. Не погуляешь.
«Климат С.-Петербурга, несмотря на главный свой характер — непостоянство, должен быть отнесен к последовательным.
Весна начинается довольно поздно. В начале мая нередко случается видеть падающий снег. В 1834 году снег шел 18-го мая!
Лето весьма кратковременно. Хорошего, теплого времени редко бывает более шести недель; прочие, так называемые летние дни, во всем уподобляются дням поздней осени.
Осень, нередко весьма продолжительная, есть самое неприятное в Петербурге время, коего главные принадлежности: туман, дождь, ветер, а иногда снег, скоро исчезающий при температуре между -2 и -6 Реом. Чрезвычайная краткость дней дает повод сказать, что в течение октября, ноября и декабря Петербург покрыт мраком, особенно для жителей высшего класса, которые, просыпаясь поздно, едва успевают узреть дневной свет, скрывающийся в ноябре и декабре около трех часов пополудни» («Статистические сведения о Санкт-Петербурге», 1836, изданы при Министерстве внутренних дел).