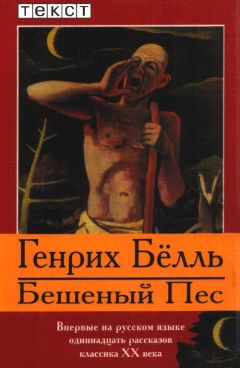Священник молитвенно сложил руки, а потом перекрестил воздух над его головой. Когда же, робко улыбаясь, он хотел его задержать, Йозеф прошептал:
— Нет. Простите, но теперь я должен уйти. Моя жизнь в опасности… — И прежде чем выйти из дома, перекрестил в воздухе фигуру в черном.
На улице стало совсем темно, словно ночь стала гуще; деревня поникла под гнетом мрака и походила на молчащее стадо в темном хлеву — оттого казалась вымершей. Когда Йозеф осторожно пробирался по темным переулкам, чтобы выйти в открытое поле, снедавшее его одиночество как бы противилось ему. Так что бой церковных часов за спиной показался ему благим утешением и даже последним приветом. Четыре раза звонко и весело пробили часы на колокольне, а потом еще два раза — басовито и сумрачно, словно Господь ударял молотом по вечности.
В беззвучном мраке эти звуки, казалось, призывали к спокойствию.
Вскоре Йозеф уже мог различать дорогу и преграды на пути — живые изгороди, кусты, канавы. Он шел, повинуясь чутью, угадывая направление шоссе, пересекавшегося с дорогой. Он почти ничего не чувствовал; сердце его было исполнено покоя, того бесконечного покоя страдальцев, на который нет отклика под небосводом, никакого отклика, кроме милости Господа, коя простирается надо всей землей и всегда присутствует там, где люди страдают за веру. Он был так далек, так несказанно далек от всякой ненависти и всякой горечи, что молитвы складывались у него в душе, как тихие чистые язычки святого огня, вспыхивающие в садах веры, надежды и любви, безгрешные и прекрасные, словно цветы.
Йозеф пересек какой-то лесок, осторожно, ощупью пробираясь от ствола к стволу, чтобы не удариться в кромешной тьме. А выйдя из леса на открытое пространство, сразу увидел огни. Справа от него, в призрачной дали, высились освещенные желтоватым светом здания и какие-то сооружения из стальных балок. За ними зияли багровым пламенем разверстые пасти доменных печей, словно порождение преисподней. Боже мой, да ведь это наверняка уже заводы в Годелене! А сразу за ними проходит граница! И до нее осталось меньше получаса. Местность круто спускалась под гору, ее пересекал ряд деревьев, очертания которых он различил в отблесках далекого света. Этот ряд тянулся по темной равнине почти до самого завода. Похоже, вдоль него проходило шоссе. А дальше все было покрыто мраком, очевидно, там начинался большой лес, который простирался, может быть, даже до самой границы…
Не было слышно ни звука, кроме странно глухого, похожего на бормотанье, ритмичного шума доменных печей и рудников.
Местность была совершенно открытой — сплошной луг без единого дерева или куста. Йозеф взял немного левее. Но и там не было никакой возможности незаметно пробраться к шоссе. Он застыл в нерешительности. Все яснее он видел четкую линию деревьев, похожую на бесконечный ряд зубов. Страх вновь овладел им, дерзко и нагло сдергивая с него маску небрежной самоуверенности. Ему мерещилось, будто в ночной тьме во весь рот ухмыляется какая-то страшная рожа. Он бросился со всех ног вперед и тут же больно стукнулся о дерево: уходящая вниз луговина словно тянула его за собой — он не сразу понял, до чего она крутая.
И тут небо раскололось пополам — сноп резкого света внезапно прорезал тьму. Перед ним находилась машина с включенными фарами. Словно от сильного удара Йозеф упал, больно ударившись подбородком, и его лицо впечаталось в жесткую, прохладную и сырую почву, а дрожащий луч фары, как огромный желтый кнут, повис над его телом. Зарывшись лицом в землю, он не слышал криков, обращенных к нему, и тогда прямо перед ним с апокалиптическим хлюпаньем в землю впилась целая россыпь пуль.
Йозеф лежал, словно распятый убийственным светом на этом крутом склоне, — муляжная фигура на учебных стрельбах. И прежде чем пули изрешетили его, он закричал. Он так громко кричал о своем одиночестве, что небо должно было рухнуть. Он еще раз приподнял голову и опять возопил в темноту. Но следующий залп из тявкающей пасти оборвал его крики.
Было совсем тихо, когда палачи сошлись над ним и осветили фонариком то, что осталось от его тела. Да почти ничего и не осталось, и казалось, будто сама земля истекала здесь кровью.
— Да, это он, — сказал равнодушный голос.
Перевод Е. МихелевичС великолепным хладнокровием солдата Рейнгард старательно опустошил покрытую следами пуль машину казначея. Последние отступавшие солдаты давно исчезли в пучке улиц, расходившихся веером, а противника было не видно и не слышно. Тихо и безлюдно изнывал от жары развороченный снарядами парк, и словно призрачная декорация зияли фасады домов. Из некоторых окон свесились наружу и как-то тоскливо развевались занавески, и казалось, что из подвалов доносится дыхание перепуганных людей, не решающихся поверить в эту жуткую тишину после оглушительного грохота выдыхающегося наступления. Полукруг площади, чья плоская сторона прилегала к парку, эта середина веера, от которого улицы расходились во все стороны, словно тонкие аристократические пальцы, была усеяна стальными касками, противогазами и обломками винтовок. Сияющее, улыбчивое небо многообещающе высилось над несравненным прекрасным городом, чей блеск и обаяние манили из каждого окна. А между остатками армейского имущества на зеленом, мягком и сочном пространстве газона, изборожденного траншеями, валялись трупы, трупы в серых мундирах… Можно было подумать, что ты угодил как раз в момент передышки некой революции, которая перенесла свой центр в другую часть города и переместила туда все живое. В то время как трупы на газоне прижимались к земле, как бы застыв в вечном плаче, под деревьями аллеи ласковый летний воздух дрожал, словно от поцелуев.
Рейнгард бросил свое оружие и снаряжение возле простреленной машины и теперь рылся в куче картонных коробок. Он обнаружил ценности, которые ни разу в глаза не видел за долгие, долгие годы войны. Сказочные сигары и мыло, один только аромат которого мог бы означать мир. Шоколад и сдобные сухари, дорогое белье. Он мгновенно стащил с себя грязную, пропотевшую рубашку и теперь ощутил блаженство от прикосновения к телу новой шелковой ткани. Потом аккуратно, чтобы вместилось побольше, доверху набил карманы. Копание без помех в столь ценных вещах наполнило его пьянящим ощущением счастья и безумной, чудесной мыслью, что война, эта жестокая и казавшаяся бесконечной война, начала наконец выдыхаться. Что она неотвратимо растекалась в стороны и распадалась на части, словно серая пелена густых облаков, рассеивающаяся под хлесткими ударами золотых солнечных лучей. Война явно шла на убыль; Рейнгарду казалось, что он долго просидел под стальной, герметично закрытой крышкой, которая вдруг открылась, он внезапно вынырнул на свет и, ощутив головокружительное и могучее чувство свободы, дышал, дышал и никак не мог надышаться. Улыбаясь, он закурил роскошную сигару, выпустил голубое облачко дыма в великолепный воздух и подумал о своей жене — ах, ведь он скоро увидит ее, скоро начнется новая жизнь — и, рассмеявшись, швырнул несколько пачек сигарет обратно в машину, чтобы освободить место в карманах еще нескольким кускам этого драгоценного королевского мыла для нее, для своей маленькой, милой возлюбленной. Потом нагнулся и поднял ремень, чтобы затянуть потуже свою разбухшую и колыхающуюся фигуру. Но уже в следующий миг он лежал с колотящимся сердцем, прижавшись лицом к горячему, вонючему асфальту.
Из небольшой рощицы за лужайкой с бешеной скоростью широким фронтом вылетела целая туча маленьких вертких машин с солдатами в мундирах цвета хаки, которые стреляли в белый свет, как в копейку. Машины приближались к полукруглой площади. Последний остаток тишины лопнул, когда окно машины над ним с треском разлетелось вдребезги. Мгновенно охвативший его страх вцепился в него когтями и не давал спокойно оглядеться; его внезапно помутившиеся глаза не видели ничего, кроме беспощадно ровной поверхности площади, откуда было невозможно убежать. Маленькие желтые машины подъехали к аллее, сбились в кучу на площади, словно стая маленьких, вертких, тявкающих псов, и разлетелись по разным улицам. Одна из них проехала совсем рядом с головой Рейнгарда, но он успел принять ту одновременно отталкивающую и обнимающую позу, которую так часто видел у мертвецов. Сытое урчанье ухоженных танковых двигателей приближалось со стороны лужайки, и он осторожно глянул в ту сторону, укрывшись за спущенным скатом. А когда различил приближавшиеся колонны пехоты, понял, что пришло время действовать. Махина войны надвигалась на него, точно безжалостная завеса. А где-то далеко, там, где улицы, словно спасительные ущелья, открывались миру, брезжило маленькое любимое личико его жены.
Рейнгард приподнялся, присел на корточки за разбитой машиной и внезапно понесся к ближайшей улице с какой-то невиданной, невероятной скоростью безумца. Он не заметил, что один из танков в сопровождении подразделения пехотинцев уже был там. Из состояния безумного ужаса, в котором он слепо мчался вперед, его вырвал жуткий свист снаряда, пролетевшего, словно гнусная птица, у него над самой головой и с оглушительным грохотом взорвавшегося, ударившись о фасад какого-то дома. Он бросился ничком на землю и пополз, умирая от страха, дальше, а в это время другие снаряды пролетали над ним, как кулаки обезумевшего от злости великана, бьющие мимо цели. Вихри воздуха над его головой вздымались один за другим, и каждый раз за ними следовали разрывы, порождая гулкое эхо, как в помещении. Эти двенадцать метров до начала улицы были похожи на убийственную вечность между жизнью и смертью. Он вскочил и понесся, понесся сломя голову в глубь улицы, словно в распахнутые объятья жизни.