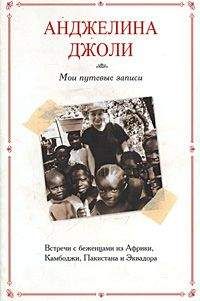Саша, шагая впереди, уже обнимал за плечи Анну-Луизу, за ними, держась за руки, подпрыгивали Юрка и Бьёрн, а замыкали шествие я и Би, шагающая, как журавль в мультфильме. Может быть журавли точно так же передвигаются, задирая колени и в жизни, но я их никогда не видел, кроме как в зоопарке, а там они не двигались.
– Ты сын небогатых родителей? – спросила у меня Би. Говорила она по-русски, сильно искажая слова, но я так писать не хочу, потому что даже исковерканное ею слово выходило очень симпатичным и ласковым, а если попытаться изобразить на бумаге, получится сюсюканье и кривлянье. Например «небогатый» у Би получалось как «ниибёгятий». Отвратительно читать, но слушать удивительно приятно.
– Небогатых, – утвердительно кивнул я.
После такого откровенного признания Би сама обняла меня за плечи, что, впрочем, при ее росте было совсем нетрудно сделать. Вечер стал приобретать вполне конкретные очертания.
Мы еще не дошли до улицы Москвина с филиалом Художественного театра, как Саша резко остановился на полушаге. На противоположной стороне темнела прикрепленная к фасаду гранитная доска с барельефом знаменитого поэта. Именно она приковала его взгляд.
– В этом доме жил Сергей Есенин, – гордо заявил рыжий Юра.
– О, Эсэнин, – застонали восторженные шведские девушки. Экскурсия по литературной Москве для них неожиданно уже началась.
– Жил с внучкой Льва Толстого, – дополнил я.
Шведских специалисток по русской литературе чуть не хватил удар. Би прижалась ко мне с такой силой, будто хотела, чтобы от взаимного проникновения молекул у нас срослись тазовые кости. Бьёрн и Анна-Луиза бросились на другую сторону ощупывать камни дома. Я уже приготовился отправляться на поиски квартиры, где проживал златовласый певец России, но моего друга осенило еще до того, как я стал проявлять чудеса собственной эрудиции.
Сашка остановился и начал задумчиво двигать пальцем в носу. Вся компания замерла, даже Би перестала об меня тереться.
– Пойдем в «Яму», – безапелляционно сказал Зегаль.
– Нам хватит только на пиво и сухарики, – тихо заметил я, поскольку шведки изучали русскую литературу, а в ней про сухари много чего написано.
– В «Яму», – повторил по-наполеоновски Саша.
Тогда я, зная его не первый год, понял, что он что-то задумал. Но сперва расскажу историю, связанную с его дурацкой привычкой, или, чтобы звучало красиво, фирменным жестом.
Уже не помню как, но мы попали в гости к валютной проститутке – человеку редкой тогда в Москве профессии. Эта дама, лет на пять старше нас, жила напротив недавно построенной гостиницы «Россия». Там, где теперь кабинеты чиновников Минимущества, прежде были коммуналки с самым разнообразным населением, чаще всего не очень пристойного поведения, так что дух этих помещений совершенно с годами не поменялся. Это вам не аура Дворца пионеров, расположенного в Аничковом дворце Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда.
К этой проститутке мы ходили часто. Не реже, чем раз в неделю. Впрочем, других мы и не знали. Мы считались ее преферансной компанией: Сашка, бородатый Алик Кушак и я. Нас она привлекала только одним – у нее всегда водились американские сигареты, которые мы выкуривали за игрой по паре пачек, несмотря на то что Алик нас уверял: американские сигареты очень вредны для потенции. «В них кладут селитру, поэтому они сгорают в пепельнице сами, как бенгальский огонь», – уверял он и курил больше всех. Проститутка (неважно, как ее звали) была глазастая, грудастая и матершинница – признаю, что это очень расплывчатый портрет, потому что в памяти остался только «Филип Моррис» в коричневой пластиковой упаковке с угольным фильтром. Проститутка ценила нашу компанию, и один раз даже выгнала, когда мы расписывали мизер, клиента-итальянца.
Играть в преферанс с валютной проституткой, при этом курить настоящие американские сигареты и слышать звон курантов на Спасской башне – набор уникальный. Один шаг до предательства Родины.
Однажды Сашка, как всегда думая над очередным хамским мизером, спросил:
– Надь! (вот как ее звали), скажи как опытный специалист, что бабе приятнее – толстый или тонкий?
– Ты же, … твою мать, в носу не большим пальцем ковыряешься, – образно ответила находчивая Надя.
Самое удивительное во всей этой истории, что к Наде ни один из нас, вполне здоровых молодых людей, не имел никакого сексуального интереса. Девушек в начале семидесятых было в нашей жизни много, а американских сигарет мало. Старость, я потом понял, наступает, когда эти понятия меняются местами. Во всяком случае, нарушать из-за ерунды такую трогательную дружбу мы бы никогда не стали…
Здесь я совсем оторвусь от главной линии повествования, но нельзя не упомянуть о двух персонажах из нашей юности, а лучше места для этого не найти.
В рассказе о недолгом периоде создания и жизни команды КВН МАРХИ, то есть о времени, когда мы учились на пятом курсе, постоянно присутствовали два персонажа – Алик (Александр) Кушак и Владимир Преображенский (Зебра), – никакого отношения к Архитектурному институту не имеющие.
Они оба учились в одной школе с Сашей Зегалем на Садовом кольце за кинотеатром «Форум». Это была своеобразная школа. В ней существовали художественные классы, которые потом немалой своей частью переместились в Архитектурный. С Сашей учился и Миша Посохин, сын главного архитектора Москвы, ныне автор многих занятных, если не сказать странных, сооружений в современной Москве. Правда, к Кремлю, где его папа соорудил Дворец съездов, Миша еще не подобрался. Наряду с элитным, казалось бы, обучением в школе существовали классы, где ученики попутно получали профессии секретарей, естественно, не партбюро, краснодеревщиков и водителей-механиков.
В принципе неплохая идея. Например, Миша, который с рождения знал, что будет начальником, мог, еще учась в школе, подобрать себе секретаршу, коменданта на дачу и личного водителя.
Поскольку Зегаль не предполагал становиться начальником, причем во многом по не зависящим от него обстоятельствам, он подружился в школе с Зеброй и Кушаком, которые учились в соответствующих классах и после школы стали обычными шоферами, но с тягой к высшему образованию.
Что касается Миши Посохина, то поступал я в институт, что называется, рядом с ним. У меня экзаменационный билет был под номером 404, у него – то ли 403, то ли 405. На экзаменах мы и познакомились, так как одновременно ходили их сдавать. Последним испытанием при поступлении у нас было черчение. Но неожиданно место рядом со мной оказалось свободным. Не зная, что Мишин папа – главный архитектор Москвы, я очень за него переживал, подозревая, что мой новый румяный и абсолютно не спортивный товарищ заболел, не выдержав экзаменационного пресса. Первого сентября я встретил Мишу у фонтана во дворе института и удивленно спросил: «Миша, а ты куда исчез?» Посохин покраснел, засмущался (он тогда еще смущался) и признался: «Я с мамой ездил на Пицунду!»
Тут я испытал первый шок провинциала в столице. Второй был в троллейбусе, когда пьяный обозвал пассажира, мешающего ему войти в салон, «жидом».
В Баку за восемнадцать лет я это слово не слышал, а читал только в книгах. И тут вдруг встретил, что называется, живьем! От удивления я выбросил мужичка обратно на тротуар из троллейбуса двадцать пятого маршрута, связывающего две знаковые площади в Москве – Лубянку и Елоховскую. Два охраняющих чистоту помыслов центра.
А самым большим для меня потрясением оказалось то, что пассажиры молчали, но с явным неодобрением отнеслись к моему, как мне казалось, справедливому поступку.
Определение, данное пьяным в автобусе, исключительно подходило к Алику Кушаку. Но это только для идентификации национальной принадлежности. Известно, что существовало тринадцать колен Израилевых. Алик принадлежал к самому яркому из них. Черная густая кудрявая шевелюра, большие карие глаза с поволокой… Володя Преображенский имел вид в соответствии с фамилией – молодого, румяного, застенчивого священнослужителя. Кушак и Зебра работали водителями в поликлинике МВД, поэтому ездили на «Волгах» с номерами серии «МАС», что означало принадлежность к одному из неприкосновенных ведомств страны. И у всесильного Щелокова, и у его зама, не менее всесильного зятя Брежнева Чурбанова, машины были той же серии. Но и Зебра, и Кушак мечтали об иной доле.
Алик мечта стать эстрадным актером. Все шесть лет, что мы учились в Архитектурном, он поступал в Московское эстрадно-цирковое училище. Для экзамена он выбрал басню Крылова «Две собаки». Я застал период, когда с ним занимался Зегаль, и любой из этих уроков вполне можно было выпускать на сцену как концертный номер.
Алик был спокойный, неторопливый индивидуум, на грани полного флегматизма, безо всякого внутреннего клокотания страстей. «Дворовый верный пес Барбос, – медленно, басом, растягивая слова, с некой долей трагизма, свойственной его соплеменникам в любых обстоятельствах, – который барскую усердно службу нес…» – «А-аа! – кричал Зегаль и бегал вокруг Кушака. – Заснуть от тебя можно, ты быстрее говорить способен?» – «Хорошо, – соглашался Алик и точно так же, с полным отсутствием темперамента, но чуть быстрее, продолжал: – Увидел старую свою знакомку…» – «Ты вдумайся в смысл! – кричал Зегаль. – Вдумался?» – «Конечно, – соглашался Кушак и продолжал, как на проповеди: – Жужу, кудрявую болонку…» Зегаль обессиленный падал в траву в том самом месте, где Герцен давал клятву Огареву, или наоборот, неважно.