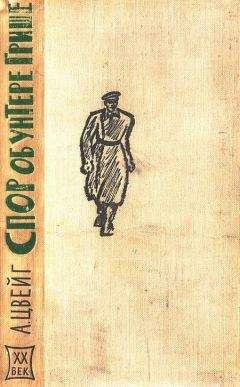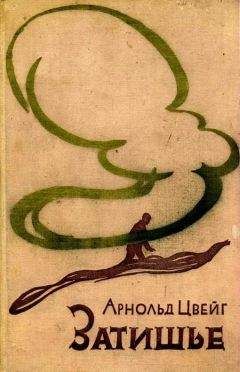Они уселись рядом, было тесно, и это тоже было хорошо: теперь, когда они сидели на одном месте, мороз давал себя знать. Она уже успела спять рюкзак, и он, подгребая к ней слабо пахнущее сено, чтобы ей было как можно теплее, сказал в заключение разговора:
— Во всем этом, Ева, нет ничего удивительного. Ни в вашей жизни, ни в моей… Это участь многих и многих. Сотни таких же юношей и девушек, как мы, ждут от жизни только знака, который вселил бы в них решимость стать свободными и сильными… Вот как бывает иногда в марте: небо почти ясное, и вдруг, откуда ни возьмись, гром, а до него — молния, ее никто не заметил, но она, конечно же, предшествовала грому, иначе ведь не может быть. Только молния и гром, но у тебя уже полная уверенность — весна пришла. Я не кажусь вам слишком экспансивным? А теперь приподнимите ноги, вот так… Что такое жизнь вообще и что мы себе представляем, когда с болью и страхом произносим: жизнь? Это только слово, по-моему…
— А по-моему — жажда, которая изо дня в день остается неудовлетворенной, жажда счастья, жажда прочной дружбы, понимания, успеха, жажда силы, чтобы подчинить себе жизнь, жажда гармонии… Да разве все перечислишь!
— Беспредельная неудовлетворенность, верно! — он кивнул. — Но жизнь подает знак только тем, кто сумел освободиться от скованности, кто силен. Заколдованный круг! Не грустно ли? Вам-то, Ева, жизнь давно подала знак!
— Ах, дружок, жизнь всем подает знак.
— Но мы не видим его и не следуем ему, мы глядим вдаль и, ничего не замечая, проходим мимо.
— Это уж смахивает на декламацию, Магнус, — сказала она и ласково улыбнулась, стараясь смягчить впечатление от своих слов. Она почувствовала, как болезненно он их воспринял.
— А теперь посмотрим, чем нам поддержать наши бренные тела. Тесно здесь, правда, но придвиньтесь ближе, еще, еще, я ничего вам не сделаю. Так теплее.
Ему было радостно чувствовать заботу о себе.
— У меня инжир, ветчина, яйца, — сказал он, открывая мешок. — Вот, выпейте, это старый коньяк. Я собираюсь напиться.
— Очень вредно в туристском походе.
Но она сделала несколько глотков, и вслед за ней он тоже прильнул губами к еще теплому горлышку бутылки.
— У меня много колбасы, паштет, апельсины и хлеб. Давайте соединим наши запасы.
Они ели, смеясь и разговаривая, как товарищи, ели с огромным удовольствием, невзирая на жестокий холод и ревниво следя друг за другом, как бы кто не съел меньше. Ежеминутно она говорила:
— Магнус, у меня опять замерзли руки. Разотрите их.
И он, послушный и счастливый, обхватывал своими большими и мягкими руками ее узкую крепкую кисть и растирал ее до тех пор, пока девушка его не останавливала.
— По-видимому, у вас нет ни малейшего представления, как обращаются с дамскими ручками, — весело поучала она.
— Ах, что вы! — ответил он вдруг с важным видом и нежно поцеловал кончики ее пальцев.
Рассмеявшись от неожиданности, она порывисто откинулась назад и легко, с глухим стуком ударилась головой о деревянную стенку.
— Ого! С каких это пор у психологов появились столь аристократические манеры?
— Вы не ударились? — быстро спросил он.
— Пустяки! Вы бы лучше рюкзак уложили. Ваши руки тоже не очень теплые.
Ее интересуют его холодные руки! Никогда в жизни он не был так счастлив, никогда не встречал он такой девушки. И хотя он чувствовал свое превосходство, он не мог не признаться себе в этом. Ей можно говорить все, решительно все, она не поднимет тебя на смех, в крайнем случае только улыбнется. Нет, она не пустышка! Что угодно, только не пустышка! Как с ней чудесно! И как легко! Впервые в жизни он встречает девушку, с которой можно говорить о самых сложных психологических явлениях, да разве это не чудо? Нет ничего, что было бы ей непонятно, она прошла через тот же круг переживаний, что и он. Ему не приходится долго разъяснять ей свои мысли, она схватывает их с первых же слов, — да такую девушку днем с огнем не сыщешь!
Он был счастлив, ему хотелось петь, пусть петухом, все равно, лишь бы петь. Эта девушка зажгла в нем искорку, светлую и теплую. Как она добра, что позволила ему пойти с ней! Если так будет продолжаться, он наверняка не обдумает свой очерк «О воспитании и мышлении», а будет все время болтать с ней. Но что ему до очерка? Здесь перед ним человек, да какой еще! Он по-детски улыбался.
— Ну что ж, пойдем? Перчатки я нашла, теперь пусть мороз злится сколько ему угодно… Но вот что, Магнус: раньше чем двинуться, мне хочется подремать. — Она вытянула ноги, зарылась в сладко пахнущее сено и скользнула поглубже, к стенке. Подложив руки под голову, она, отдыхая, закрыла глаза.
— Следуйте моему примеру, Магнус, — сказала Ева.
Но он сидел не шевелясь и смотрел на нее, на ее белый шерстяной свитер, на милое, красивое лицо. Короткая горячая волна прилила ему к сердцу, в ней сверкали разноцветные искры… Его пронизанный страхом мир еще противился новому ощущению. Но вот накатила вторая волна, огромная, сияющая, переливающаяся всеми цветами радуги, и опрокинула, смешала все чувства. Порывистым движением, угловатый и неопытный, он наклонился над Евой и осторожно поцеловал ее в губы. Она испугалась гораздо больше, гораздо неподдельней, чем следовало бы испугаться; в ней все еще жил инстинктивный страх девственницы. Она даже вскрикнула и произнесла что-то вроде: «Не смейте целовать в губы, я помолвлена». Ей, правда, тут же до слез стало стыдно этих возгласов. Но все же она мгновенно приподнялась, как ни трудно это было в такой тесной хижине, и села, опираясь на руки. Но обороняться было незачем. При первых же ее словах черный ледяной поток смыл все, что только что искрилось и сверкало. Он окаменел от стыда и печали, он упал на спину и лежал, крепко закрыв глаза, стиснув кулаки, лицо его словно свела судорога, губы вытянулись, как у страдающего, усталого ребенка. Несколько долгих секунд стояла тишина, такая тишина, что в ней, казалось, дышать было трудно.
Девушка посмотрела на него, она тоже испытывала жгучий стыд. Полученное ею некогда воспитание, прорвавшись сквозь ее теперешнее «я», чуть не обратило в катастрофу столь естественное, нежное, освобождающее движение губ, как поцелуй. Сколько беспомощности в его позе! Она подумала: он опять чрезмерно страдает, как будто бог знает что натворил! А несколькими минутами позже ей пришло в голову: вот она молния, вот он знак!
И она очень сознательным, очень материнским движением наклонилась к нему и нежно поцеловала, поцеловала, как ребенка, когда его будят. Он заморгал, словно в глаза ему ударил яркий свет, лучезарный ореол милосердия. Потом положил руки ей на волосы и, вкладывая в это движение всю душу, долго гладил их.
Позднее они перебрались через седловину и спустились с крутого склона к озеру. Незамерзающее, оно лежало у подножия почти отвесных склонов — ясная чаша из сине-зеленого драгоценного камня, в которой, едва колыхаясь, отражались, как в зеркале, горные вершины.
Тропа была широкая, они шли рядом, они даже взялись за руки и, словно расшалившиеся дети, шагали широко и размашисто. Только теперь он увидел всю красоту этого солнечного дня, небо показалось ему особенно синим, а озеро, чем ближе они подходили, все больше представлялось светящимся чудом. Солнце перевалило за полдень, и на снегу уже играли легкие, нежные, чуть гаснувшие краски. Магнус и Ева шли по берегу озера и разговаривали, как старые друзья, которые давно не виделись и знают, что очень скоро им опять придется расстаться. Они разговаривали, и в каждом их слове, в каждом звуке голоса дрожала скрытая нотка радостной растроганности. Чувство превосходства оставило его, к нему вдруг вернулась юность. Он преклонялся перед Евой.
— Посмотрите туда! Вот он, Эверест! — говорил он. И это значило: ты владычица моя, ты это понимаешь? Он не знал, что с собой делать от счастья; убегал вперед, возвращался, говорил о простейших вещах, и щеки его пылали, словно он рассказывал сказку. Он даже запел вдруг скрипучим голосом, совсем немузыкально, он пел ужасно, но так звучат все песни о счастье…
Ева чувствовала, что согрела, оживила застывшую душу, что ей хочется этого, хочется всем сердцем, и она лучилась радостью, потому что была счастлива. Она рассказала ему о Гансе, о том, как она познакомилась с Гансом в колледже, рассказала, что через два дня, в среду, на первой неделе поста, они поженятся. Она обещала Магнусу познакомить его со своим женихом, обещала, что они будут друзьями, и он понимал, что это означает конец его одиночеству и приобщение к жизни, к любимой жизни, по которой он истосковался и которая до сегодняшнего дня всегда ускользала от него.
Солнце спускалось все ниже, лучи его горели все ярче, все многоцветней, и вдруг этот щедрый день подарил им еще одну сказку: в озеро, темно-синее и словно бездонное, в одном месте берег вдавался белым мыском, узким, как палец; мысок был покрыт снегом, а на самом его конце рос куст, который стоял так близко от воды, что у корней покрылся коркой льда. Это был, вероятно, шиповник, но он не оголился, ветви его были густо усыпаны темно-красными ягодами, похожими на тяжелые капли свежей крови. Алые, они, будто сотни маленьких юных сердец, светились на фоне искрящегося снега и глубокой синевы озера, сверкавшей сквозь густые ветви куста.