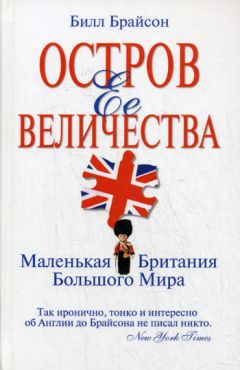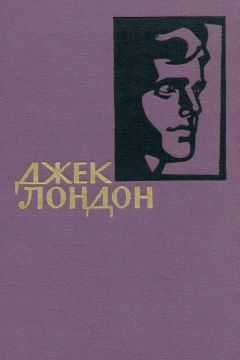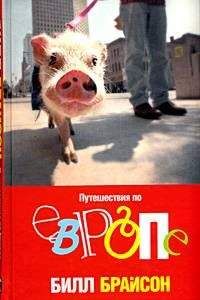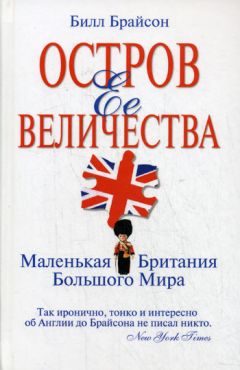Исключите аэропорт Хитроу, погоду и все здания, которых коснулся костлявым пальцем Ричард Сейферт, — и вы повсюду найдете почти полное совершенство. И, раз уж мы об этом заговорили, запретите сотрудникам Британского музея забивать двор своими машинами и превратите его в зеленый сад, а еще избавьтесь от жутких, неряшливых и дешевых барьеров перед Букингемским дворцом — они совершенно не к лицу ее несчастному, осажденному во дворце величеству. И, конечно, приведите музей естественной истории в тот вид, в каком он был, пока его не раздолбали (совершенно необходимо вернуть на место выставку насекомых, вредящих домашнему хозяйству, демонстрировавшуюся с 1950-х годов), и сделайте бесплатным вход во все музеи, и заставьте лорда Палумбо вернуть на место здание «Маппин и Уэбб», и восстановите дома на Лайонс-Корнер, но теперь пусть в них кормят чем-нибудь съедобным, и хорошо бы еще кофейную лавку «Кардома» ради старых добрых времен; последнее, но самое главное — заставьте совет директоров «Бритиш Телеком» выйти наружу и лично выследить каждую проданную ими красную телефонную будку, использующуюся под душевую кабину или сарай во всех концах земного шара, пусть приволокут все обратно, а потом засадите их за решетку — нет, лучше убейте. И тогда Лондон станет воистину великолепным местом.
Я впервые за много лет приехал в Лондон без особой цели и с легким трепетом ощутил себя свободным и невостребованным в огромном гудящем организме города. Я прошелся по Сохо и Лестер-сквер, заглянул ненадолго в книжный магазин на Чаринг-Кросс-роуд, переставляя книги по своему вкусу, бесцельно поблуждал по Блумсбери и наконец вышел через Грейс-Инн-роуд к старому зданию «Таймс», превратившемуся в офис незнакомой мне компании, и сердце мое сжала ностальгия, знакомая лишь тому, кто помнит дни горячего типографского металла и шумных репортерских комнат и тихой радости — получать весьма недурное жалование за двадцатипятичасовую рабочую неделю.
Когда я начинал в «Таймс», после знаменитого годичного перерыва в ее работе, раздутый штат и небольшая нагрузка были, мягко говоря, в обычае. В отделе «Новости компаний», где я работал помощником редактора, мы большую часть дня пили чай и читали вечерние газеты, дожидаясь, пока репортеры совершат ежедневный подвиг: отыщут дорогу к своим столам после трехчасового обеденного перерыва, включавшего несколько бутылок очень приличного «Шатонеф дю Папе», подсчитают расходы, пошепчутся, скрючившись над телефонными трубками, со своими брокерами, обсуждая чаевые, оставленные за крем-брюле, и наконец принесут пару страниц текста, прежде чем отбыть, умирая от жажды, через дорогу, в «Голубого льва».
Примерно в половине пятого мы принимались за непыльную работенку, а через час или около того надевали пальто и расходились по домам. Работа казалась неправдоподобно легкой и приятной. К концу первого месяца один из коллег научил меня, как вставлять воображаемые покупки в список расходов и относить его на третий этаж, чтобы обменять через маленькое окошечко примерно на 100 фунтов наличными — таких денег я буквально никогда не держал в руках. Нам предоставляли шестинедельный отпуск, три недели авторского и месяц творческого отпусков. Что за чудное местечко была тогда Флит-стрит, и как я был счастлив ему принадлежать!
Увы, ничто хорошее не вечно. Несколько месяцев спустя Руперт Мердок взял «Таймс» в свои руки, и через несколько дней здание наполнилось таинственными загорелыми австралийцами в белых рубашках с короткими рукавами. Они шастали у нас за спинами с табличками для заметок и, похоже, взглядами снимали мерку на гробы. Существует легенда, которая, подозреваю, могла основываться на истинном происшествии: один из этих функционеров заглянул в комнатку на четвертом этаже, битком набитую народом, спросил, что они здесь делают, и, не услышав ни одного внятного ответа, единым махом уволил всех, кроме одного счастливчика, который как раз выскочил к букмекеру. Возвратясь, он нашел комнату пустой и провел в ней в одиночестве еще два года, гадая, что стряслось с его коллегами.
В нашем отделе борьба за эффективность проходила менее остро. Отдел, где я работал, подчинили более крупному отделу деловых новостей, вследствие чего мне пришлось работать ночами, чуть ли не восемь часов в сутки, и к тому же нам немилосердно урезали расходы. Но хуже всего было то, что мне пришлось регулярно иметь дело с Винсом с телетайпа.
Винс был притчей во языцех. Он вполне мог бы считаться самым отвратительным человеком на свете — будь он человеком. Чем он был, я не знаю, могу только описать пять футов шесть дюймов злонравия, одетые в нестираную футболку. Поговаривали, что он и родился не как все, а готовеньким вывалился из материнского живота и тут же рухнул в сточную трубу. В числе немногих простых и дурно исполняемых обязанностей Винса была и такая: передавать нам сообщения с Уолл-стрит. Каждый вечер мне приходилось самому вытягивать из него сообщения. Найти его обычно удавалось в шумной беспорядочной суматохе телетайпа. Он сидел, развалясь в кожаном кресле, отвоеванном в административном отделе этажом выше, плюхнув перед собой на стол ноги в башмаках «Док Мартенс», а рядом — вскрытую, а порой и опустошенную коробку с пиццей.
Что ни вечер, я робко стучался в открытую дверь и вежливо спрашивал, не видел ли Винс сообщений с Уолл-стрит, напоминал, что уже четверть двенадцатого, а нам следовало бы получить их в половине одиннадцатого. Не мог бы он отыскать их в грудах забытых бумаг, изливавшихся из его многочисленных аппаратов?
— Не знаю, может, ты не видишь, — отвечал Винс, — я ем пиццу.
К Винсу у каждого был свой подход. Одни прибегали к угрозам. Другие к подкупу. Третьи стремились обаять. Я — умолял.
— Пожалуйста, Винс, не мог бы ты их мне отдать, ну, пожалуйста. Всего-то секунда, а мне станет куда легче жить.
— Отвали.
— Пожалуйста, Винс. У меня жена, семья, а меня грозят уволить, потому что сведения с Уолл-стрит всегда опаздывают.
— Отвали.
— Ну, может, ты просто скажешь, где они, а я сам возьму?
— Ты отлично знаешь, что не смеешь здесь шарить.
Телетайп принадлежал профсоюзу, носившему таинственное имя NATSOPA. NATSOPA, чтобы держать в своих когтях нижние эшелоны газетной промышленности, помимо всего прочего, хранила в тайне секреты технологии — например, способ выдернуть из машины листок с телеграммой. Винс, как мне помнится, прошел шестинедельный курс подготовки в Истборне. Ни на что другое сил у него уже не осталось. Журналистов он и на порог не пускал. Наконец, когда мои мольбы переходили в невнятное хныканье, Винс тяжело вздыхал, запихивал в пасть ломоть пиццы и шел к двери. На добрые полминуты он застывал нос к носу со мной. Это было самое тяжкое испытание. Дыхание его не ведало вкуса зубной пасты. Глазки блестели, как у крысы.
— Ты меня достал, — хрипло рычал он, осыпая меня крошками размокшей пиццы, после чего либо отдавал мне сообщения с Уолл-стрит, либо мрачно возвращался в свое кресло. Заранее предсказать исход было невозможно.
Однажды, в особенно трудный вечер, я пожаловался, что мне не справиться с Винсом, ночному редактору Дэвиду Хопкинсону, который и сам, когда хотел, являл собой грозную фигуру. Хопкинсон, фыркнув, пошел разбираться и даже вошел в помещение телетайпа — впечатляющее нарушение установленных границ. Через несколько минут он вышел обратно, красный и встрепанный, стряхнул с лица крошки пиццы и вообще выглядел совсем другим человеком. Он негромко уведомил меня, что сообщения Винс скоро принесет, а пока лучше его не беспокоить. В конце концов я открыл более простой способ: вырезал курсы валют на конец дня из первого выпуска «Файненшл таймс».
Сказать, что Флит-стрит в начале 1980-х годов не поддавалась контролю, значит лишь намекнуть на масштаб хаоса. Национальная ассоциация графики, профсоюз печатников, решала, сколько человек требуется на одну газету (многие сотни), сколько можно уволить во время спада (ни единого), и предъявляла администрации соответствующий счет. Правление не властно было нанимать и рассчитывать типографских работников, да, собственно, и не знало, сколько народу числится в редакции. Сейчас передо мной газета от декабря 1985 года. Заголовок гласит: «Аудитор обнаружил в «Телеграф» излишки штата в 300 человек». Это надо понимать так, что газета «Телеграф» платила жалование 300 сотрудникам, которые у них не работали. Жалование выплачивалось по сдельной системе, столь хитроумной, что в каждой репортерской комнате на Флит-стрит имелась книга расценок, толстая, как телефонный справочник. Помимо жирного жалования, печатники получали бонусные доплаты — вычислявшиеся порой с точностью до десятых долей пенни — за набор шрифтом необычного размера, за набор густо правленой статьи, за набор неанглийских слов и за пробелы в конце строк. Если работа выполнялась не в типографии — например, приносили готовый набор для рекламы, — они получали компенсацию за то, что не набирали статью.