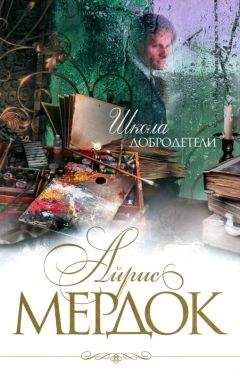— Так это все относительно? — спросила Мидж. — Я запуталась.
— Не ты, а он, — уточнил Гарри.
— Понимаете, математика — это некая диковинка, — говорил Стюарт, — хотя она тоже часть нашего мышления, более запутанная, чем думают люди посторонние. Математика впечатляет нас, нам кажется, будто она ясна и не может ошибаться, мы называем ее языком… Но она не может быть моделью для разума. Идеальных моделей нет и быть не может, поскольку разум — это человек, а человек пронизан нравственностью и духовностью. Идея машины неуместна, «искусственный разум» — это ошибочный термин…
— Ну вот, теперь он завел про духовность! — воскликнул Гарри. — Ты хочешь все наделить нравственностью, это твоя разновидность религии. Ты хочешь загнать в угол то, что на самом деле объективно и имеет собственное место. Но наша эпоха учит как раз противоположному. Современная наука уничтожила различие между добром и злом, там нет никакой глубины. Таково послание современного мира: глубина есть только в науке. И Урсула права, математика — чистый пример. В этом-то все и дело, потому что математика повсюду, она уже сорвала банк, и биология стала математикой наших дней. Разве не так, Урсула? Язык планеты — математика…
— Ты пьян, — сказала Урсула.
— Чего ты боишься? — спросил Томас Стюарта. — Ты можешь определить?
— О, всего того, о чем мы говорили.
— Но мы говорили всякую чушь, — сказала Урсула. — Обычная застольная болтовня.
— Я боюсь, что мы можем потерять наш язык и вместе с ним потерять наши души, наше ощущение правды и реальности, наше чувство направления, наше представление о добре и зле.
— Сейчас определенно конец эпохи, — проговорил Гарри. — Энергия, доставшаяся нам от греков и Ренессанса, полностью израсходована. Новые технологии — это жизненная сила.
— Что ты имеешь в виду, говоря о потере языка? — спросил Томас.
— Я говорю о потере языка наших ценностей, центрального человеческого языка, на котором говорят индивидуумы и который связан с реальным миром.
— Но этот мир существует всегда, — сказала Мидж, постукивая обручальным кольцом о столешницу. — Разве не так, Эдвард?
— Мы можем потерять привычное восприятие мирового порядка как чего-то окончательного, потерять нашу самость, наше сознание ответственности…
— Ничего этого нет и никогда не было, — возразил Гарри. — Это иллюзия. Мы пробуждаемся от сна, наше драгоценное индивидуальное «я» — это нечто поверхностное, это вопрос стиля, le style c’est l’homme meme[10]. Добро и зло — понятия относительные. После банальностей люди переходят к дурацким разговорам о нравственности.
— Но такая вещь, как человеческая природа, безусловно существует, — сказала Урсула. — И она остается неизменной. Нам, женщинам, это известно, правда, Мидж?
— Женщины всегда как лакмусовая бумажка, — ответил Гарри. — Как собаки перед землетрясением — посмотрите, как они носятся, в какое безумное возбуждение впадают! Они уничтожают старый порядок, который так тебе мил. Мужчины в ужасе, и неудивительно, что ислам — самая популярная религия в мире.
— Дух без абсолюта, — сказал Томас Стюарту, — вот чего ты боишься.
— Да. Потерянный дурной дух.
— Нет сомнений, — продолжал Томас, — что реальный живой язык сохранится для немногих творческих людей. Они получат всю власть, они будут единственными личностями, а обычная толпа станет кодифицированным проявлением обобщенного технологического сознания.
— Мой дорогой Томас, именно так и обстоят дела сейчас! — заявил Гарри.
— Ты — циничный представитель элиты, — бросила Мидж.
— Он пытается досадить нам, — сказала Урсула.
— Ну вот вам пожалуйста, — отозвался Гарри, — женщины все переводят на личности.
— Значит, ответ — в религии, — обратилась Урсула к Стюарту, — мы с этого и начали.
— Да, это то, что удерживает в человеке стремление к добру и показывает, что добро — это самое важное, некий духовный идеал и дисциплина, способные стать — это очень трудно представить — чем-то вроде религии без бога, без сверхъестественных догматов. Мы можем не успеть поменять то, что мы имеем, на то, во что мы верим, — по крайней мере, так я думаю… но я только начинающий…
Они рассмеялись.
— Духовная дисциплина! — повторила Урсула. — Я думаю, твоя судьба — миссионерство. Я вижу все: ты станешь генералом Армии спасения… или иезуитом…
— Не могу понять, почему все так мрачно, — сказала Мидж. — Откуда это предубеждение? Столько всего замечательного происходит и будет происходить. Мы можем летать в космос, мы умеем лечить туберкулез, мы научимся лечить рак и накормим голодных. А телевидение — разве это не прекрасно?
— Нет, не прекрасно, — ответил Стюарт.
— А как насчет программ о животных…
— Это ужасное изобретение вредит даже несчастным животным. Оно разрушает наше восприятие, наше чувство реальности. Оно заполнено порнографическим дерьмом…
— Кстати, — заметила Мидж, которую стал утомлять абстрактный разговор, — мы вчера вернулись домой раньше, чем собирались, и обнаружили, что Мередит смотрит какую-то жуткую порнографию на видео. Он взял кассету у кого-то из своих приятелей! Дети в наше время смотрят ужасную грязь.
Стюарт со стуком положил нож. Его щеки покраснели.
— Как, Мередит смотрел настоящую порнографию?
— Да, настоящую, «жесткое порно». То, что я увидела, было чудовищно, абсолютный кошмар: двое мужчин, девушка и мальчик с ножом…
— Не надо рассказывать, — перебил Стюарт. — И как вы поступили?
— А как мы могли поступить? Велели выключить видик и вернуть кассету тому, у кого он ее взял. Что он и сделал на следующий день.
— Так значит, ребенок смотрел… Но ведь вы объяснили… вы сказали ему, как это плохо… вы дали ему понять?
— Мы выразили ему наше неудовольствие. Что, нужно было выпороть его? Он сказал, что все дети смотрят такое. Объяснить что-либо ребенку нелегко — как это теперь делается? Наши предки были бы шокированы, узнай они, что дети интересуются сексом. А теперь считается, что мы должны посвящать их в эти проблемы, едва они начинают говорить! Нельзя же наказывать ребенка за все подряд. Секс теперь повсюду. И вообще, дети отнюдь не невинные создания, это доказал психоанализ. Их невозможно оградить…
— Они на самом деле невинны, — сказал Стюарт, — и их можно оградить. Есть ведь и такое понятие, как душевная чистота…
— Оградить их невозможно, и я, откровенно говоря, не уверена, нужно ли это делать, — настаивала Мидж. — Мы, конечно, сказали Мередиту, что он не должен смотреть ничего подобного, но я думаю, он все равно будет. Возможно, это не так уж плохо, ребенок все равно не слишком много понимает. Лучше пусть посмотрит теперь, пусть ему надоест, чем познакомится с этим позднее и подсядет. А он в любом случае с этим столкнется. Разве ты не согласен, Томас? Это как прививки. Переболеешь на раннем этапе и получишь иммунитет на всю жизнь.
— Ни в коем случае не согласен, — запротестовал Стюарт. — Не вижу причин, чтобы непременно столкнуться с этим позднее. Порнография — вещь не принудительная, люди могут договориться о том, что плохо, и воздерживаться от дурного. Почему мы должны исходить из того, что молодые люди непременно одержимы сексом? И почему вы принимаете как нечто само собой разумеющееся, что Мередит будет вас обманывать? То, к чему дети привыкают в раннем возрасте, может ослабить их нравственную защиту. Это просто обучение цинизму, причем не менее глубокое и действенное, чем любое другое. Это похоже не на прививку, а на заражение вирусом, от которого невозможно избавиться. Вирусом разрушающим и развращающим, а развращение детей — мерзость.
— Ты просто не понимаешь детей, — ответила Мидж. — Если бы понимал, не краснел бы и не выходил из себя!
— Я согласен с Мидж, — сказал Гарри. — В наше время нужно быть терпимым. Абсолютное осуждение — дело прошлого, нужно как-то примиряться с самим собой, и чем раньше, тем лучше. Мы не святые и не можем ими быть. Мы должны научиться принимать зло как нечто естественное. Ученые всегда были гностиками. Они говорят, что в человеческом сознании есть некая основополагающая неопределенность, и я чувствую именно это. Что касается развращения молодых, то в этом обвиняли даже Сократа! У всех нас бывают грязные мысли. Порнография — часть современного мира, она нравится всем, и она совершенно безобидна.
— Не думаю, что Стюарту это нравится, — возразила Урсула. — Интересно, нравится ли Эдварду? Что ты думаешь, Эдвард? Ты самый молодой из нас.
Эдвард резко поднялся, опрокинув кресло, поднял его и обратился к Мидж:
— Прошу прощения, но я себя неважно чувствую. Пожалуй, лучше мне уйти. Не надо меня провожать, я пойду прямо домой…
— Нет-нет, я с тобой, — сердито сказал Гарри. — Идем, Стюарт. Наше семейство направляется к дому. Ляжем сегодня спать пораньше. Не провожайте нас, мы уйдем потихоньку.