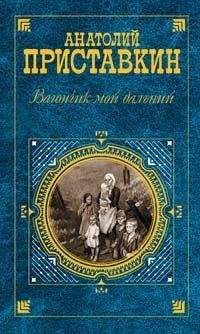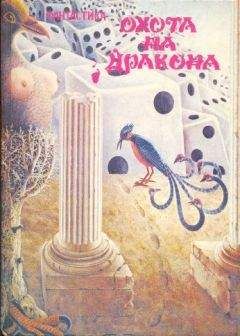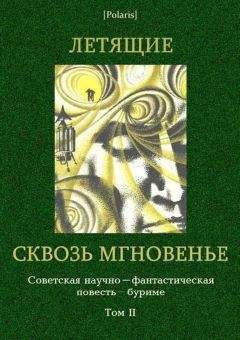А Леша Белый посадил Зойку к себе на колени и, придерживая за поясницу, стал совать ей в губы кружку. Она молча отворачивалась — водка лилась ей на грудь, на пол, — но с чужих колен не слезла. За стеной громко гоготали мужчины и повизгивала Мила. То ли плакала, то ли смеялась.
Я отвел глаза от Зойки. Своей необычной для нее покорностью она вызывала особую неприязнь. Я стал смотреть на Шабана, а он на меня.
Было видно, что и он тоже начинает раздражаться от всей этой картины. Я даже немного испугался, зная его вспыльчивый характер татарчонка. В детдоме однажды он бросился на воспитателя, сделавшего замечание, вцепился зубами в его руку, насилу оторвали.
Я спросил:
— Шабан, ты как?
— А ты как? — спросил он.
— Херово. Да?
— Еще хуже, чем херово.
— Может… драпанем?
— Куда?
Откуда мне знать куда? А здесь что, лучше? — так подумалось. Но, может и лучше. Не станут палить, как Скворчику в спину. Со стола бы чего бросили… Хоть корку хлеба…
Конечно, это не произносилось вслух. Мы давно научились понимать друг друга по шевелению губ. Сильно захмелевший Леша Белый вдруг повернул к нам стриженую голову, свирепо бросил:
— Так что ваш фриц… Иль как его?.. Будете утверждать, что не слышали, что он по-своему лопотал с фашистами?
— Какой фриц?
— Какой, какой!.. Рыбкин который!
— Рыбаков?
— Ну Рыбаков.
— Мы ничего не слышали, — сказал я. А Шабан кивнул.
— И больше не услышите… вашу мать! — Леша Белый выругался. И посмотрел на Зойку. — Она грит, тоже не слыхала. Но с ней-то мы по-простому… — Он грубо заголил Зойке юбку, но Зойка сидела с анемичным лицом и глядела в потолок. Дура, подумалось, хоть бы со стола пожрала. Все не за бесплатно.
Тут с грохотом объявились двое остальных. Волосатик тащил обнаженную Милку, за растрепанными волосами не было видно лица, а другой, в майке, Синий, держал на вытянутых руках играющий на ходу патефон.
Иголка у патефона от сотрясения прыгала с дорожки на дорожку, сбивая мелодию, но можно было разобрать, как женский голос выводит довоенную песенку «Катюша». Знакомые слова… Ты, мол, землю, береги родную, а любовь Катюша сбережет… Прям к нашей жизни…
Патефон водрузили на столе, а пластинку завели снова.
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой…
— Танцуем! — крикнул Волосатик.
А Лешка Белый вдруг еще побелел, как перед атакой, гаркнул во все горло:
— Слушать команду! Один солдат в две шеренги ста-но-ви-и-сь!
Меня подтолкнули к Зойке со словами:
— Работай, подкидыш! Пайку получишь!
— Тан-цуй танго! — заорал Волосатик.
— Но я… Я не умею, — сознался я.
Я и, правда, никогда в жизни не танцевал, да еще под патефон.
— А тут уметь не надо. Двигай ногами! А мы полюбуемся!
— Тренье двух полов о третий!
Так они острили, расположившись за столом и наблюдая за нами. Шабану всучили Милку, мне Зойку, что было особенно противно. Она послушно протянула руки, которые были холодны, как лед. У меня от ее холода даже пальцы онемели, будто танцевал с покойником. Да, и впрямь, она была как неживая, сомнамбула, лягушка из болота, которую велели взять в руки. Я опустил глаза, чтобы она не увидела, как я ее сейчас ненавижу. Но она тоже смотрела в пол. Наверное, она так же ненавидела меня.
Мы сделали несколько шагов в такт музыке. И еще несколько шагов.
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла…
Из-за стола с одобрением крикнули:
— Бал продолжается, господа офицеры!
Милка, это случилось за перегородкой, укусила Волосатика.
Взбесившись, он стал бить ее по губам, расквасил лицо. Пообещав выбить зубы, для пущей безопасности ее вытолкали из штабного вагона, а Зойку, которая все время молчала, оставили до утра.
Но и Зойке внушили напоследок, что, если и она себе позволит что-нибудь подобное, они изнасилуют Шурочку. Нет, они отдадут ее для потехи Петьке-придурку, у которого в голове, как известно, торричеллиева пустота, зато своей ялдой может невзначай кого-то зашибить.
Кричал Волосатик, а другой, Синий, только улыбался. Один Белый Леша продолжал сидеть за столом, раскачиваясь, как маятник, и не поднимая стриженой головы.
Но однажды отреагировал, ни к кому, впрочем, не обращаясь:
— Зойку не трожь! И сестру ее! Слышите? — И членораздельно: Зойка… мне… нужна…
И все заткнулись.
Милка в углу вагончика рыдала так, что никто из нас не мог заснуть.
И стук колес не заглушал. Как ни старалась утешить ее теть-Дуня, мы всё слышали. Замолкнув, она снова прорывалась, да еще с каким-то подвыванием. Временами ее рвало.
Тихая от природы Милка блажила на весь товарняк, а всегда шумная, дерзкая Зойка молчала, как пришибленная. Уткнулась своей Шурочке в живот, дыхание затаила. Будто впрямь ее нет. А теть-Дуня только вздыхает. Какие можно слова найти, если нет защиты ни ей, ни всему вагончику?
Ван-Ваныч любил повторять, что бродили иудеи по пустыне, тоже не видели исхода. Но он же потом, говорят, наступил. Наступил… Через сорок, что ли, лет. Эдак, если мы доживем, нам будет за полсотни…
Но доживем ли?
— Давайте, — говорит теть-Дуня громко, чтобы все слышали, — песню про любовь скажу!
— Про любовь? — удивляемся мы.
— Ага. Про любовь.
— Какую такую любовь? Какая у этих… у штабистов? — спрашиваем серьезно. Другой любови никто не знает.
— Нет, — возражает теть-Дуня. — Я скажу про настоящую любовь.
— Разе она бывает?
— Спою, узнаешь. — И после некоторого раздумья: — Из моей деревни песня-то. Значит, как бы про мою жизнь.
А после вздоха пронеслось. Голос у теть-Дуни за нервы цепляет. В песне той, значит, встречаются двое, ну она, девушка, как теть-Дуня в молодости, и он… Непонятно кто, но душка-парень. Не чета штабистам. И вот теть-Дуня молит его:
Глянь-ка, миленький, на небо,
На небе светится луна,
Если люди нас заметят,
Нам с тобой будет беда…
А он ей в ответ:
Что нам люди, что нам люди,
Если я тебя люблю…
Но теть-Дуня возражает:
Мать на улице ругает,
Что я поздно прихожу!
Приду рано, приду поздно,
Начинает мать ругать,
Будет, будет дочка шляться,
Пора замуж отдавать…
В общем, теть-Дуню отдали замуж за старика. Я его представлял в виде Петьки придурка, только с бородой. Это еще смешней.
А теть-Дуня со вздохом заключает:
Уж как старого, седого
Я до смерти не люблю,
А парнишку молодого
Всю жизнь забыть я не могу!
Все молчат, переживают. Даже Милка не блажит. Но мы-то знаем, это для нее пели. Когда слов для утешения нет, песня утешает. Может, теть-Дуня это сейчас сочинила? Да нет, рассказано-то издалека. Это так раньше жили: дом, мать… луна. Разве сейчас можно представить?
Сейчас только вагончик. Если бы теть-Дуня про сейчас пела, то вышло бы у нее другое. Ну хотя бы такое вот:
Перрончик прощальный,
Вагончик мой дальний,
И взгляд на прощанье
Печальный, печальный…
Теперь каждую ночь нас с Шабаном выводят на танцы под прицелом винтовки. Как на расстрел все равно.
Да не в танцах дело. Размять затекшие от долгого пребывания в вагончике конечности приятно. Даже к моей лягушке я привык. Энто ктой-то за окном гремит? А энто к нам моя лягушонка в коробчонке едет! Так запомнилось из «Василисы премудрой». Иван-дурачок, следуя пущенной своей стреле, нашел ее в болоте. А она, вишь, обернулась красной девицей, да в карете… Моя — так все наоборот: красна-девица, то есть Зойка, обернулась скользкой лягушкой. Слава Богу, что бородавок от нее нет. Но мы по-прежнему друг на друга не смотрим.
Руками, как в вагонной сцепке, сомкнулись — и марш, марш под патефон.
У самовара я и моя Маша,
А на дворе уже совсем темно…
А еще про Сашу, который помнит какие-то встречи…
Саша, как много в жизни ласки,
Как незаметно идут года…
Ласки не у меня. Это у штабистов. Милку они отставили. Ее увезли в больницу. Какую, мы не узнали. Но всеведущий Петька-придурок повертел пальцем у виска и добавил, что сбрендила девка, теперь с психами время проводит. А из девочек штабисты выбрали бесшабашную, нагловатую Вальку, которая не пищит и не протестует, готова ложиться хоть под танк. Она даже попыталась во время танца оттереть мою лягушку, но Зоя вдруг вцепилась в меня, не руки — клещи, будто у нее отнимали любимую игрушку.
Подумалось, даже не знаю почему, что она вовсе не бесчувственная, если за меня так держится. Но поглядел в ее глаза и не нашел там ни одной живой искорки. Лед сплошной, Антарктида. Значит, Вальку она ненавидит еще больше, чем меня…