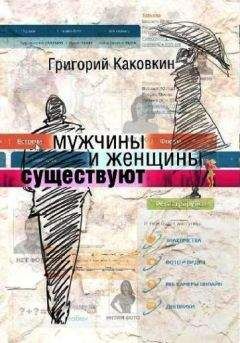— Проходи быстрее — у меня кошка, может выбежать, — сказал Вольнов, прерывая ее мысли, когда они вошли.
Он зажег свет в коридоре, и на Милу неподвижно уставилось рыжее животное с зелеными глазами.
— Она на всех так смотрит или только на меня? — спросила Тулупова.
— На всех, — механически ответил Вольнов. — На всех.
— И много их до меня было?
Вольнов задумался:
— Как бы я тебе ни ответил, ты не поверишь: никого — посчитаешь, что вру…
— …скажешь “много” — я решу, что ты хвастаешься как мальчишка.
Вольнов подошел к ней, прижал к себе. Когда она его так называла, в нем что-то вздрагивало и становилось светлее, будто в его внутреннем доме какой-то человечек вскарабкивался на один стульчик, на другой, дотягивался и открывал форточку. Свежий воздух из детства и юности, из зрелых лет, из всего, что было значимо для него, превращался в дурманивший поток новых, неиспытанных чувств. Он ее целовал в этом неподдельном состоянии, и оно переходило в Милу, и она, как кошка, возбужденная резкими запахами свежей рыбы, мурлыкала между поцелуями:
— Что, мальчик, что? …Что ты, мальчик! …Что ты хочешь, мальчик…
Она не знала, почему так привязалось к ней это слово? Почему она его произносит, что заставляет это делать многократно? Но оно вырывалось снова и снова, как тогда в первый раз, когда, отвечая ему на сайте, она назвала его мальчиком.
— Мальчик, мне надо в душ…
— Никакого душа, считай, что у меня отключили воду. Душ придуман, чтобы все разрушить.
— Что разрушить?
— Все. Считай, что мы на лавке в парке, душа нет.
Она мимолетно вспомнила о Сковороде — откуда он знает, но тут же поняла, что просто попал. Он прав, что тысячи или сотни тысяч, если не миллионы, теряли невинность в таких местах, где нелепо искать душ. Запах желания, его твердый член, упирающийся в нее, настаивает на этой минуте, на этой секунде, и как горячий хлеб, отломанный руками, имеет иной вкус, нежели тонко отрезанный ножом, так и эта минута разрушилась бы любой отсрочкой. Он раздевал ее, целовал, а она шептала:
— Мальчик… мальчик…
У него были очень теплые, большие ладони. Поднимаясь и опускаясь по ее телу, они запаковывали ее в какое-то новое чувство. Она точно знала, что это не любовь, точно знала, что это не плотское, это было похожее на то и другое, но совершенно отдельное, которое еще искало себе имя. Она хотела мужчину. И ей не надо ничего придумывать, его боготворить, не надо оправдывать себя высокими словами — никаких слов, извинений или оправданий. Перед ней был тот, который был нужен сейчас. Сейчас — и не надо к нему привыкать. Она гладила его тело как добротную ткань в магазине, наслаждаясь фактурой и выделкой. Тонкие злые губы, дневная щетина на лице, выступающая родинка на плече, сухая трава волос на груди, красноватый прыщик — это география нового тела. А она Колумб, Васка да Гама, прямолинейный и упрямый исследователь, которому не стыдно спросить: как вы здесь живете, пигмеи, кто заваривает вам чай по утрам, как вы чистите зубы, как трете кожу в ванной, что за фотографии висят на стене и, наконец, что любит ваш ощипанный ангел, входящий в меня. Два тела, соприкасаясь, искали самые важные чувствительные места. Он брал ее тяжелую грудь и наслаждался ее формой, весом, плотной коричневой кожей соска…
Он зажал ей рот, когда она стала кричать. А когда все кончилось и они лежали на спинах рядом, слегка соприкасаясь ногами, Вольнов сказал:
— Кричишь, будто в чистом поле…
— Ты же хотел услышать. Услышал?
— Так в моей жизни не кричал никто.
Потом они лежали молча. Рыжая кошка вспрыгнула в кровать и медленно, осторожно ступая по одеялу, дошла до лица и уставилась прямо в глаза Людмиле. Бессмысленный, инфернальный кошачий взгляд она долго чувствовала в темноте.
— Брысь, Маруся, — сказал Вольнов.
Теперь она была молодой, красивой женщиной с ошеломляющим бюстюм, как написал ей “оптик-шлифовщик Савельев Иван Гаврилович, цех № 7”, так, во всяком случае, он именовался в своем библиотечном билете. Она это хорошо запомнила, и хотя Савельев ей активно не нравился — худой, высокий, с растрепанными длинными и сальными волосами — но слова он выбирал всегда самые неожиданные, и вообще был единственный из посетителей заводской библиотеки, кто, не стесняясь, приносил цветы к праздникам и говорил всегда что-то нелепое, но трогательное и запоминающееся. На Восьмое марта он принес три ободранных красных тюльпана и на открытке написал: “Вы, Людмила Ивановна, своим ошеломляющим бюстом приносите к нам на завод Солнце и Весну. Только не увольняйтесь и работайте. С праздником 8 Марта. Иван Савельев”. Марина Исааковна Шапиро, заведующая библиотекой и музеем Красногорского оптико-механического завода, когда увидела, как Тулупова рвет поздравительную открытку, сказала:
— Милочка, ну что ты так расстроилась, что он тебе такого написал, наш Ванечка, что, “азохн вей”, может написать такого пролетарий?!
— Марина Исааковна, ну вы посмотрите!
— Теперь уже не посмотрю, — сказала Марина Исааковна и показала на клочки в мусорной корзине.
Тулупова быстро их достала, собрала открытку на столе и еще раз прочитала вслух с выражением, казалось, показывающим всю мерзость написанного.
Но почему-то получилось не очень.
— Вот видишь, — сказала Марина Исааковна, — ты хотела прочитать с отвращением, а не вышло. “Ошеломляющий бюст” с отвращением и уничижением прочитать нельзя, тут даже мой любимый Аркадий Исакович Райкин не справился бы. Если это прочитать так нельзя, то и ничего плохого тут не написано. Возьми любое слово, любое предложение…
Рядом лежали еще не разобранные по папкам газеты, и Людмила с лету прочитала: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”
— Ты сама выбрала. Моя мама коммунистка тебя сразу же расстреляла. Так вот представь, что тараканы ползут и ползут, из всех щелей ползут, и вот они соединяются в кучу, такую кучу-кучу огромную, мерзкую, они уже везде были, в таком дерьме… и теперь прочитай.
Людмила прочитала, коверкая:
— Проле-ееетарии все-е-х-х-х стран, соединяя-я-я-яйтесь.
— Пролетарии всех стран, соединяйтесь, — еще более мерзко сактерствовала Марина Исааковна. — Вот видишь. Это полезно, как кефир на ночь. “Ошеломляющий бюст” — это песня мужчины, его зов к праматери, как сказал бы Розанов.
— Ну, так любое хамство надо пропускать мимо ушей. “Не увольняйтесь, работайте” — он что, сюда на мой… — Тулупова запнулась, — бюст глазеть приходит, а не книги в библиотеке брать?
— Не брать — а читать, — тут же методично поправила Шапиро, с этим словом она боролась с первого дня работы Тулуповой, и продолжила. — Милочка, зачем он приходит не важно, важно, что он видит тебя и до конца своих дней будет помнить, что у него на заводе в библиотеке работала такая умопомрачительная женщина, как ты, с таким ошеломляющим бюстом, что — я не знаю. И ты пойми — об этом он вспомнит даже в Лондонской Королевской библиотеке, если когда-нибудь там окажется! Бюст. Это счастье! Это не мои два прыща!
Сергей. Эта история началась, когда ее детям было девять и семь, и она уже лет пять отработала “в культурном отсеке невсплывающей подводной лодки”, так Марина Шапиро называла свой небольшой коллектив из трех человек. Она сама — заведующая библиотекой и по совместительству директор заводского музея, рядовой библиотекарь — Тулупова и “журналист широкого профиля”, как сама про себя говорила, подруга Марины Исааковны, “женщина постоянно на выданье”, вдова и балагур Юля Львовна Смирнова, по штатному расписанию главный редактор и единственный журналист заводской многотиражки. Эти две женщины были почти на двадцать лет старше Людмилы, и по одному классификатору они проходили бы как несчастные жертвы тоталитарного режима, а по другому — они были птицы. Не воробьи, но близкой к ним породы, свободные, неприхотливые, не мечтающие о перелетах в теплые страны. Мать Марины Исааковны из старых большевичек, всю жизнь проработала в органах переводчицей с немецкого, никогда не позволяла себе ни одного лишнего слова, никаких сомнительных тем и дружб, зато ее дочь Марина, вставшая на крыло в хрущевское время, позволяла себе это в полной мере. Она не рвалась наверх, не делала карьеру, говорила всегда, что думала, а в любовниках держала непризнанных художников, поэтов, писателей и режиссеров. “Я их вскармливаю и развожу, как павлинов, — говорила она. — Как только они становятся известными, они покупают себе пыжиковую шапку — мне оставляют мои по-о-этические портреты, в масле и стихах, и уходят от меня. К… большевикам. Редко продают Родину. Надо бы чаще. Но, продав, писем из Парижа категорически не пишут”.
Юля Львовна была женщиной одного мужчины. Он был физик-теоретик, сухой, вежливый и, как считала Людмила Тулупова, неинтересный, но интеллигентный. Такое сочетание действительно иногда бывает, но не в этом случае. Мирон был физиком от Бога и человеком совсем не скучным, но на него надо было попасть, как на редкий спектакль.