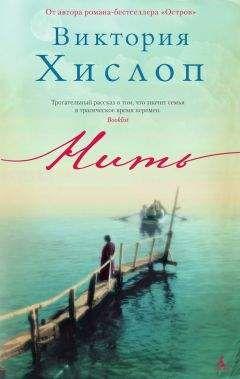В подвале дома семья держала старого мула, а с ним и козу, чтобы был свой сыр и молоко, и, не считая тысяч мух, заселявшихся без приглашения, в этом убогом помещении обитало еще и несколько кур, строивших себе гнезда в грязной соломе. Они были приучены держаться подальше от задних ног мула, зато без страха собирали объедки возле самых ног козы. Когда из кухни не несло запахами еды, в доме стояла вонь от навоза.
Вот в этот-то темный зловонный подвал и влетела в тот день искра из огня. И раньше тысячу раз такие вот кусочки горячей золы отлетали от трещавших в огне поленьев и медленно опускались на пол, где дотлевали еще пару секунд и гасли. Но эта пролетела с точностью метко наведенной стрелы сквозь узкую щель между половицами и на лету только сильнее разгорелась, набирая скорость.
Она упала на круп мула, откуда ее тотчас смахнул безостановочно и ритмично мотающийся хвост. Отлети уголек налево, он упал бы на мокрый, пропитанный мочой пол. Но он отправился направо, упал на ворох соломы и, не задержавшись на поверхности, проскочил вглубь, рядом с курицей, сидевшей на яйцах, – идеальные условия для того, чтобы жар еще тлеющей искры набрал силу.
Котел наверху все кипел. Усталая хозяйка ожидала своих мужчин домой приблизительно через час, а пока пошла наверх прилечь. Ее дочь была уже в спальне, лежала там одна в темноте. Куда легче было заснуть сейчас, пока родителей нет в комнате. По ночам отец обычно шумно и грубо лапал мать, а потом оба засыпали и храпели до утра.
Между тем внизу огонь уже разгорелся под ворохом соломы, однако запах паленых перьев и рев перепуганных животных не услышали ни мать, ни дочь – обе дремали двумя этажами выше.
Каких-нибудь несколько секунд – и языки огня поползли по деревянным балкам, добрались до потолка. Вскоре весь подвал был охвачен пламенем, стены и потолок превратились в сплошной огонь, он распространялся быстро и неуклонно – вверх, на следующий этаж, а затем наружу, к соседним домам.
Даже поднимающаяся в доме температура женщин не разбудила. Летом в Салониках жара часто стояла невыносимая. Наконец звук, похожий на страшный взрыв, заставил их вскочить. Это кухонный пол провалился в подвал.
В один миг обе женщины уже были на ногах и, забыв о сне, обливаясь потом от жары и ужаса, схватили друг друга за руки. Огонь уже охватил лестницу, и они поняли, что этот путь отрезан, но тут услышали знакомые голоса внизу, на улице.
Не было времени взвешивать риски. Сначала дочь, а за ней мать вскарабкались на подоконник и бросились вниз, полагаясь на милосердие стоявших там мужчин. А затем, когда их дом тут же аккуратно сложился и рухнул, бросились бежать со всех ног, подхваченные людским потоком, стремительно несущимся на восток. Вскоре они смешались с толпой, совершенно не подозревавшей о том, кто сыграл главную роль в этих страшных событиях.
Соседи скоро заметили клубы дыма и почувствовали аппетитный запах жареной козлятины, и все успели выскочить на улицу, пока их дома не загорелись. Некогда было гадать о причинах пожара, а глазеть – тем более. Огонь распространялся со всей огромной скоростью несущего его свирепого горячего ветра.
За какой-нибудь час были уничтожены десятки домов. Эти по большей части деревянные постройки и летняя засуха превратили город в пороховую бочку. Дождей не было с самого июня, и остановить огонь было нечему. В городе имелось несколько пожарных насосов, но они все были старые, и толку от них было мало, да и все равно большая часть запасов воды шла в многочисленные лагеря союзной армии, стоявшие под Салониками.
В центре города, где еще не было видно никаких признаков пожара, Константинос Комнинос как раз подходил к своему торговому залу. Шаг у него был легкий, пружинистый. Наконец-то у него есть сын.
Поделиться новостью было не с кем, не считая одного человека. Сколько Комнинос помнил, в маленькой душной каморке у входа в торговый зал всегда, день и ночь, сидел смотритель, он же ночной сторож. Тасос служил здесь уже больше полувека. Раз или два в день он обходил ряды ткани, изредка выходил на улицу, чтобы отыскать продавца лимонада или купить табаку, но большую часть времени сидел на одном месте, посматривал по сторонам или спал. В высокое окно, выходящее на улицу, был виден кусочек неба. По ночам этот маленький темноволосый человек сворачивался клубком и засыпал на диване в той же тесной каморке, у стены. Комнинос понятия не имел, когда он ест и где умывается. Ему платили за то, чтобы он находился здесь двадцать четыре часа в сутки, триста шестьдесят пять дней в году, и за все те годы, что Комнинос знал его, он ни разу не пожаловался.
Услышав звук ключа в замке, Тасос вышел из своей норы, чтобы встретить хозяина. Он уже знал, что за Комниносом присылали из дому, и ему не терпелось услышать новости.
– Как здоровье кирии Комнинос? – спросил он.
– Она благополучно разрешилась от бремени, – ответил Константинос. – У меня сын.
– Поздравляю, кириос Комнинос.
– Спасибо, Тасос. Имеете что-нибудь сообщить?
– Нет, все тихо, как в могиле.
Константинос отпер главную дверь в торговый зал и уже собирался закрыть ее за собой, но тут Тасос окликнул его:
– Кириос Комнинос, чуть не забыл вам сказать: ваш брат заходил минут двадцать назад.
– Вот как?
При мысли о том, что брату что-то понадобилось в торговом зале в субботу, Комнинос недовольно поморщился. Субботние дни, когда зал был закрыт для покупателей, он всегда проводил в одиночестве – высчитывал доходы и расходы, проверял денежные поступления, просматривал счета прибылей и убытков, писал письма и занимался другими делами, несомненно подобающими исключительно главе предприятия.
– Он слышал, где-то на севере пожары начались, хотел узнать, не знаю ли я что-нибудь. Откуда бы мне знать, когда я тут сижу целыми днями.
Комнинос пожал плечами:
– Это похоже на Леонидаса. Как в увольнении, так скорее сплетни собирать! Слава богу, хоть одному из нас и без этого есть чем заняться.
Комнинос любил прохаживаться в тишине по своему торговому залу, проводя пальцами по рулонам шелка, бархата, тафты и шерсти. Он мог на ощупь определить цену материи. Это была его главная радость в жизни. Для него в этих тканях было больше чувственности, чем в женской коже. Рулоны громоздились от пола до потолка, и на ковровых дорожках вдоль всего пятидесятиметрового зала стояли лестницы, чтобы можно было легко дотянуться до самых верхних рядов. От одного конца зала до другого все ткани были разложены по цвету – малиновый шелк рядом с пурпурной шерстью, зеленый бархат – с изумрудной тафтой. Своим торговым агентам он поручал подбирать не столько конкретные виды тканей, сколько определенные оттенки, и с одного взгляда видел, кому из них удалось решить эту задачу, а кому нет. Симметрия и идеальный порядок в помещении, без суеты персонала, радовали его безмерно. Отец Комниноса, от которого он и унаследовал этот бизнес, всегда брал его с собой в торговый зал, когда там не было ни служащих, ни посетителей и можно было насладиться тишиной и покоем.
– Запомни, – говорил он пятилетнему Константиносу, – вот это и есть альфа и омега нашей жизни. – А затем показывал ему куски тканей, аккуратно разложенные в центре каждого полированного стола для резки. – Вот это альфа, – говорил он, проводя пальцем по ножницам, напоминающим по форме букву «а». – А вот это омега, – и он показывал на торцы рулонов, образующих идеально круглые «о». – Тому, кто родился в нашей семье, другие буквы знать и не обязательно.
Каждый день Комнинос вспоминал слова отца, а теперь с нетерпением ждал того часа, когда сможет повторить их своему сыну.
По субботам можно было посидеть здесь спокойно, не чувствуя устремленных на тебя взглядов персонала. Он догадывался, что его недолюбливают. Не то чтобы его это волновало, и все же было как-то не по себе. Константинос замечал, как люди обрывают разговор, когда он подходит, и чувствовал жжение между лопатками, когда они смотрели в его удаляющуюся спину.
Кабинет у него был устроен наверху, с окнами на три стороны, и из него прекрасно просматривался весь огромный зал, и в длину, и в ширину. Рабочим трудно было разглядеть его сквозь жалюзи, а сам он со своего наблюдательного пункта видел все. Важных клиентов он всегда приглашал в кабинет и приказывал принести туда кофе. В таких случаях Комнинос поднимал жалюзи, зная, что гигантская радуга тканей произведет впечатление на кого угодно. К нему приезжали покупатели со всей Греции, и мало кто уходил, не закупив большую партию товара. Ни у кого из оптовых торговцев, даже в Афинах, не было такого разнообразия выбора, и он еле успевал выполнять новые заказы.
Помимо всего прочего, он был монопольным поставщиком шерсти для большинства военных частей, мобилизованных в Северной Греции, – сейчас, когда многотысячные союзные войска стояли у самого города и цены на все товары, от зерна до шерсти, взлетели. Самое время богачам делать деньги. Комнинос всегда разбирался в цифрах лучше, чем в буквах, и чуял, куда вложить средства.