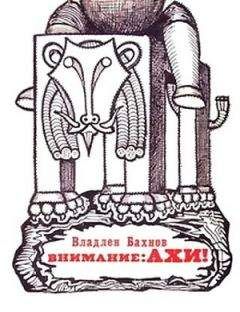Зашли с Бородицкой подкрепиться в ЦДЛ. За соседним столом сидят две прекрасные блондинки. В буфете появляются Бахнов и Калашников, нежно приветствуют блондинок, берут кофе, коньячок и садятся к нам за столик.
Мы страшно обрадовались, но все-таки спросили, почему они сели именно к нам?
— Из политических соображений, — серьезно ответил Калашников. — Потому что Бородицкая похожа на Анджелу Дэвис. А Москвина — на Долорес Ибаррури.
* * *
— Это у тебя сага, а не роман, — сказала Дина Рубина, прочитав «Гения безответной любви». — Движение цыганского табора в неизвестном направлении. Куча народу скачет верхом и катится в кибитках, взметая столбы пыли. Только иногда кто-то отлучается, чтобы украсть коня…
* * *
Дина уговорила екатеринбургское издательство «У-Фактория» напечатать «Гения…». Но рассеянный Тишков отправил им не последний, шестой, вариант романа, как мы условились, а второй.
Голый, мокрый, взъерошенный, в мыле — «Гений безответной любви» выскочил из дома и буквально был высечен на граните.
— Неужели там всенаписано, что я написала? — я просто боялась заглянуть в книгу.
— Да-да, — отвечал Тишков. — Что ты написала, то там теперь и написано.
* * *
Лев Рубинштейн:
— Прочитал ваш роман. Мне понравилось.
— Не может быть! — говорю. — Неужели прочитали?
— Не верите? Там про одну любвеобильную тетку!..
* * *
Игорь Иртеньев:
— Поди сюда, душа моя!.. Взял в поезд и прочитал. Порою в голос смеялся. Ни разу не всплакнул, врать не стану. Но в нескольких местах взгрустнулось…
* * *
— Ну, такая героиня — законченная идиотка! — сказал одобрительно Игорь Губерман. — Даже порой веришь в искренность того, что эта черта в полной мере присуща самому автору.
* * *
Леня и два его брата — старший Валера и средний Евгений — родились в уральском рабочем поселке Нижние Серги Свердловской области в семье учителя Александра Ивановича Тишкова.
У них была своя корова, надо чистить коровник. Отец Александр Иванович, бывало, скажет Валере:
— Иди коровник чистить.
А тот под любым предлогом отлынивал.
Александр Иванович — в сердцах:
— Как ты жить-то будешь, вырастешь, коровник вычистить не сумеешь!
Валера отвечал:
— А может, я другим чем-нибудь займусь, и мне это не понадобится.
Хотя навоз, Александр Иванович отдавал справедливость старшему сыну, Валера Тишков исправно транспортировал на огород.
— Ну, это потрясающе! — удивлялся наш сын Серега. — Возил навоз в какой-то глухой деревеньке, а теперь директор института и академик!!!
* * *
Валерий Александрович Тишков рассказал анекдот:
«Встречаются два земляка, вместе родились и провели молодость в деревне, потом один уехал, стал академиком. Вот он зовет к себе своего друга юности. Тот его спрашивает:
— Ну, что ты делал все эти годы? Чем занимался?
Ученый показывает на один шкаф:
— Вот, видишь? Эти книги я написал.
Показывает на другой:
— А эти книги написали мои ученики.
— Знаешь, о чем я сейчас подумал? — спрашивает земляк.
— О чем?
— Помнишь, мы с сенокоса ехали на телеге? Ты правил лошадью, а я с Танькой на копне сена. И она все проваливалась. Я и подумал: вот бы все эти книги— да ей под задницу!..»
* * *
— Знаешь, как сказано в Писании, — говорил маленькому Сереже его репетитор по математике Андрей Игоревич, — ищите и обрящете, стучите, и откроется вам. Так это — о математике. Четыре в кубе?
— Тридцать два, — отвечает Сережа.
— Четыре в кубе, Сергей? Боюсь показаться навязчивым! Четыре в кубе — раз, четыре в кубе — два…
— Шестьдесят четыре!!!
— Продано.
* * *
Сергей после двух репетиторов за день:
— Вы что из меня, ученого хотите сделать?
— А ты что хочешь, стать грузчиком?
— Зачем быть грузчиком? — он отвечал меланхолично. — Зачем быть ученым?
* * *
Меня привели в гости к чуть ли не столетней художнице Наталье Ушаковой в огромную коммуналку, я думала, таких уж и нет в Москве.
— Писатель Зайцев здесь бывал, — она говорила, — Булгаков читал здесь свои рассказы. Вы Чуванова знаете?
— Нет, я Чугунова знаю.
— А я Чугунова не знаю, а знаю Чуванова, ему 95 лет — белый старик с белой бородой весь в белом — открываю дверь, а он — с огромным букетом жасмина… Разбогател на «Диафильме»… Все это было более или менее сейчас. Что-то в последние годы много поумирало. А я человек радостный, хоть и голодов три штуки пережила. Тут упала на улице, руку сломала, встала — радуюсь, что рука-то левая, а не правая!.. Нет-нет-нет, ничего не просите, у меня в 20-е годы Кандинский и Шагал взяли мастихин и штангенциркуль и уехали, не отдали. Я с тех пор ничего без расписки не выдаю…
Показывала свои книжки — очень старые, как сама их иллюстратор. У меня в детстве была картонная коробка-восьмигранник, на ней были изображены Мойдодыр с грязнулей и надпись: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам!» Там лежал зубной порошок, мыло, маленький тюбик с пастой, зубная щетка… Так это она, оказывается, коробку с Мойдодыром нарисовала!
— Чуковский увидел и говорит: «Стишки-то я написал…» Все-таки он любил, — сказала Ушакова, — чтобы ему за все платили… А тут Глоцер ко мне приходил — с бородой. Не знаю, по-моему, ему нехорошо, как разбойник. Вот Немировичу-Данченко, помню, что было хорошо, а Глоцеру — нет…
* * *
— Вы можете получить десять экземпляров голландских изданий с вашим рассказом, — сообщил Глоцер.
— Зачем мне столько? — я удивилась. — У меня только один-единственный знакомый голландец — это вы.
* * *
Архив Владимира Иосифовича Глоцера был настолько всеобъемлющим, что, когда он переезжал на другую квартиру, я слышала, семь грузовиков вывозили его открыточки, записки и вырезки из газет. Свой кабинет, где хранились эти сокровища, Глоцер запирал на ключ и никого туда не допускал.
— Вчера я ходил на кладбище, — рассказывал мне Владимир Иосифович, — и потерял на могиле у мамы ключ от своего кабинета. А он тяжелый, старинный, там такая болванка, никто уже таких не делает, я в разных городах пробовал копии сделать, даже в тех, где еще процветают старинные ремесла. Пришел домой, лег спать. И вечером обнаружил пропажу. Сегодня я снова пришел на кладбище, все обыскал и пошел к контейнеру. Контейнер переполнен. А когда я выбрасывал мусор — он был почти пустой. Я перебрал весь контейнер. Сначала переложил его содержимое справа налево. А это специфический контейнер — кладбищенский, венки, ветки, сухие цветы, листья, иголки, бутылки. Потом — слева направо. И там, в самом низу, в дальнем углу, увидел свой ключ!
* * *
По просьбе Глоцера Леня рисовал конверт для пластинки Хармса. Ему позвонил редактор «Мелодии» Дудаков и продиктовал, что должно быть написано на конверте:
— «Дани-ил», — диктовал Дудаков, — два «И».
* * *
Владимир Иосифович имел юридическое образование, бойцовский нрав и постоянно с кем-нибудь судился. Он сам признавался:
— Я живу на компенсацию морального ущерба.
* * *
Какими-то правдами и неправдами Глоцер стал правообладателем чуть ли не всех поэтов-обэриутов. Кроме Даниила Хармса. Однажды Леня Тишков ездил с выставкой в Венесуэлу и познакомился там с женой Хармса, Мариной Малич-Дурново. Леня отрекомендовал Марине Владимировне Глоцера как великого знатока и обожателя Хармса. И тот кинулся к ней через моря и океаны, горы и долины, прожил в ее доме чуть не месяц, это был его звездный миг.
Марина Дурново по утрам выжимала ему апельсиновый сок. А Владимир Иосифович ей читал Хармса, в том числе и посвященные ей «Случаи», и она хохотала до слез, потому что всё давно забыла и слушала как в первый раз.
Вернувшись, он выпустил книгу «Мой муж Хармс» — по записям, которые сделал, общаясь с девяностолетней Мариной. Крупно — имя Дурново, маленькими буковками — В. И. Глоцер, в предисловии — теплые слова благодарности Л. Тишкову…
* * *
К столетию Хармса Андрей Бильжо решил проиллюстрировать его книгу.
Работал с большим подъемом, закончил, звонит мне и говорит упавшим голосом:
— Я нарисовал Хармса…
По тону я поняла, что рассказ пойдет о Глоцере. И точно.
— Владимир Иосифович был все время рядом, поддерживал, подбадривал меня. Но, видимо, я уже «психиатр на пенсии», — говорит Бильжо, — думал, что это милый интеллигентный человек, а он оказался страшный спрут. Высчитал себе громадный процент, предупредил, что будет лично контролировать накладные. Я говорю: «Вы так любите Хармса, давайте издадим его бесплатно? Ведь я же ничего не беру!» А он такой подкованный, стал мне угрожать… Поверь! — воскликнул Андрей Бильжо. — Все худшее, что есть в еврейском народе, — это Владимир Иосифович Глоцер! Тогда я решил ему сам заплатить эту кучу денег — только чтобы книга вышла, и моя работа не пропала даром. Или надо ждать одиннадцать лет. Из-за Глоцера, например, одиннадцать лет нельзя издавать Введенского. Потому что раньше было — пятьдесят лет со смерти автора нельзя издавать, а сейчас — семьдесят… Я к Паше Астахову, — рассказывает Андрей, — в его адвокатскую контору. Какие юристы головы ломали, ничего не могли придумать. И вдруг кто-то обнаруживает маленькую строчку: если пятьдесят лет прошло со смерти автора до введения закона о семидесяти, то его можно печатать по закону о пятидесяти. «Все, — сказал Астахов, — ничего ему не давай, ничего не говори, неси в типографию!» Наверняка Глоцер знал, что он не в своем праве! — сказал Бильжо, и я услышала в его голосе нотки восхищения. — Но блефовал. Да как артистично! Так что приглашаю вас с Леней на презентацию! — радостно заключил Андрей.