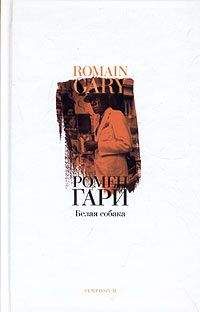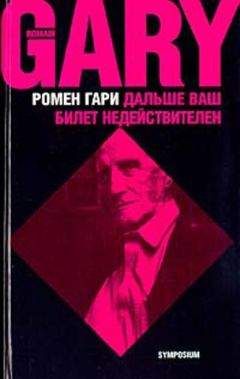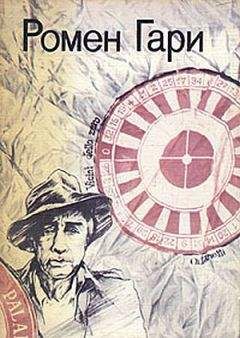Она подошла к двери и приоткрыла ее:
— Одну минуту, мой муж переодевается.
— Черт побери, — сказал я. — Я ухожу.
— Уходи.
Я пошел в гараж и сел за руль.
В знаменитой анкете Пруста есть вопрос: «Какому военному маневру вы отдаете предпочтение?» Я ответил: «Бегству».
Я много сражался в своей жизни. Больше не хочу. Свое дело я сделал.
Все, чего я теперь прошу, это чтобы мне позволили выкурить еще пару сигар в тишине и покое.
Только все это неправда. И нет ничего ужасней, чем неспособность к отчаянию.
Итак, бегство. Без промедления.
Сначала я поехал по Сансет-бульвар в сторону океана, но потом резко свернул на Кол-дуотер Кэнион и помчался к «Ноеву ковчегу» Джека Кэрратерса. Я пересек ранчо и вошел в питомник. Батька лизнул меня в лицо, встав на задние лапы, и я крепко его обнял.
— Прощай, Батька… — Я говорил с ним по-русски, чтобы никто нас не понял. — Слушай меня внимательно, приятель. Я не прошу тебя не кусать негров. Я прошу тебя не кусать только негров.
Думаю, он меня понял. Собаки умеют распознавать тех, кто одного с ними племени.
Я купил зубную щетку и сел на первый же самолет до Гонолулу. Потом Манила, Гонконг, Калькутта, Тегеран… Я проводил по нескольку дней то здесь, то там, чтобы выбить себя из колеи, потеряться, глотая вершки «местного колорита», «экзотики», «живописности», приправленные обычным для путешествий чувством отчужденности. Несколько дней здесь, несколько дней там, не уходя глубоко, не задерживаясь надолго, иначе я стал бы осознавать, что за всей этой маскировкой скрыта наша первичная данность, ущербная и непривлекательная, и я вот-вот столкнусь нос к носу с самим собой.
Я пишу эти строки на Гуаме, на берегу океана. Я слушаю, вдыхаю его смятенный шум, и он освобождает меня: я чувствую себя понятым и исчерпанным. Только океану известен голос, которым должно говорить от имени человека.
Мой самолет пролетал над ночными кхмерскими городами и рисовыми полями, когда ранним вечером в Лос-Анджелесе Сэнди, лежавший в ногах у Джин, поднял уши, встал и тихо подошел к двери. Он опустил морду и принюхался, а потом завилял хвостом, объявляя о радостном возвращении.
Это был Батька. Он удрал из питомника и пробежал всю долину Сан-Фернандо и холмы Беверли, чтобы наконец-то вернуться к своим.
Джин говорила мне позже, что не смогла выдержать его взгляда — столько в нем было любви. Она разрыдалась. Потому что и думать было нечего держать в доме собаку, которая для наших друзей-негров являлась воплощением веков рабства. «Всю эту паршивую ночь я пыталась примирить непримиримое. Что само по себе обнаружило какую-то дилетантскую изнеженность, душевную вялость. Времени-то на раздумья не было».
На следующий день она позвонила Кэрратерсу, чтобы предупредить его.
— А, так он нашел дорогу. Прекрасно. Слава Богу.
В голосе Кэрратерса было не просто облегчение, а настоящая радость.
— Да, вы явно не из тех, кто стремится перевернуть мир, Джек.
— Вот что значит жить с писателем, Джин. Вы подбираете пса и делаете из него целый мир… Знаете, что недавно произошло? Один из негров, здешних служащих, самый молодой, попытался отравить вашего копа. Он напихал ему в еду столько стрихнина, что можно было сдохнуть двадцать раз. Но пес к ней даже не притронулся: еда, поданная черным, — вы понимаете…
— Джек, не может быть…
— Конечно, не может быть. Половина того, что происходит на свете, «не может быть». Я не знал об этой истории со стрихнином. Я хозяин, поэтому мне ничего не сказали. На следующий день этот Терри — восемнадцать лет, сопляк, — пошел к Тэйтему. Билл Тэйтем — сторож, он кормил собаку, он самый что ни на есть белый, и это, видимо, чувствуется на милю вокруг, во всяком случае если судить по тем нежностям, которые ему расточал ваш коп. Как вы догадываетесь, Джин, мы, белые, обладаем особым душком, на любителя. Я докажу вам это dogs-in-hand, факты сами идут в руки. Терри попросил его отравить вашего расиста. Тэйтем ответил, что ему семьдесят лет и он не собирается кого бы то ни было отравлять, he didn’t have it in him. Он уже не такой принципиальный, как раньше, и не пойдет на это. Тут и возраст, и старческое слабоумие, в общем, у него не хватит духу. Я узнал о том, что замышляют у меня за спиной, только благодаря драке между Терри и Кизом. Киз ему наподдал как следует. Только не спрашивайте почему.
— Нелепо сваливать вину на бедного зверя… Киз достаточно умен, чтобы понимать это.
— Ошибаетесь, Джин. Киз гораздо умнее. Он настолько умен, что мне иногда кажется, он не думает, а высчитывает. Не размышляет, а замышляет. Так или иначе, он здорово отколотил мальчишку. Но это были цветочки. Позавчера я услышал крики рядом с гардеробом и пошел в ту сторону. Там был Терри, совершенно раздетый, и Киз с револьвером в руках. Револьвер был мой. Терри стащил его из письменного стола и спрятал под рубашку. Очевидно, парень хотел пристрелить вашего пса. Видите, до чего дошла эта страна. Вы понимаете, что, в сущности, стоит за этой историей? Это как растущий нарыв, потому что это уже не только расовая или политическая проблема: это безумие, психическое заболевание. Так что можете себе представить, как я обрадовался, когда ваш пес сбежал.
— Вы ничем ему не поможете?
— Я — нет. Возможно, Билл Тэйтем или еще какой-нибудь белый, во имя братской любви.
Если бы я в это время находился в Париже, я наверняка был бы вызван телеграммой в аэропорт «Орли», чтобы забрать присланную из Америки собаку. Но я был в Гонконге.
Проблема разрешилась неожиданным для Джин образом. Я не виню ее в том, что она попала в ловушку. Наверное, я и сам бы в нее угодил.
Было восемь или девять часов вечера. Джин, которая тогда играла в «Аэропорте» на студии «Метро Голдвин Майерз», готовилась к ночным съемкам. Батька и Сэнди только что слопали на кухне солидный ужин и теперь разлеглись посреди гостиной. Перед самым домом остановилась машина, и Батька моментально почуял цветного. Он вскочил и тихо прыгнул к двери, оскалив зубы, и внезапно залился воем, идущим, казалось, из недр первобытной природы.
Джин услышала шаги. Еще не прозвенел звонок, как вдруг с собакой произошло нечто странное.
Батька зажал хвост между лапами и начал пятиться.
Он не переставал лаять. Но его лай звучал по-другому: в нем появилось чувство страха и бессилия. Он то переходил в жалобное стенающее тявканье, то звучал с прежней силой и яростью.
Батька продолжал пятиться.
Джин приоткрыла дверь, не снимая цепочку: это был Киз, как всегда улыбающийся во весь рот. Непринужденные манеры, ловкие движения, сверкающие сжатые острые зубки, которые я так ясно перед собой вижу…
— Hi, there. Привет.
— Hi. Подождите минутку. Я запру собаку в гараже.
Его улыбка стала еще шире.
— Не стоит труда. Он меня не тронет.
— Послушайте…
— Я хорошо знаю животных, мисс Сиберг. Я вас уверяю, он меня не тронет. Мы еще не подружились, но дело продвигается. Небольшой прогресс уже есть. Если у вас найдется минутка…
Джин колебалась, но все же сняла цепочку. Гостеприимство.
— Вы уверены?
Киз открыл дверь и вошел. Батька зарычал с удвоенной силой. Но Джин, которая не один раз видела, как Батька прыгает на «врага», подчиняясь мгновенному рефлексу при виде чернокожего, была потрясена произошедшей в нем переменой. Киз прошел на середину гостиной, а Белая собака, не переставая рычать, ходила вокруг него, готовясь прыгнуть, но ее, казалось, удерживал некий барьер, который она не решалась преодолеть. Стоны отчаяния, прерывавшие яростное рычание, ясно говорили, насколько это идет наперекор тому, как ее дрессировали, чему учили, всей жизни верной Белой собаки.
Ей казалось, она идет на предательство. Джин стояла у двери, распахнутой в ночь, и замирала от страха. Киз оставался на середине комнаты; он вынул из кармана пачку, легкими щелчками выбил сигарету и взял ее в рот.
— Видите, перемена налицо, — сказал он. — Теперь они боятся.
Именно так. Я не выдумываю. Джин точно слышала эту фразу. Теперь они боятся. Если причины и подтекст такого обобщения недостаточно прояснили вам, что веками копилось в душе негра, в этом проявляется ваше безразличие не к неграм, а к душам.
Такие полицейские собаки, как Батька, на профессиональном языке называются боевыми. Как правило, за ними стоят несколько поколений животных, специально обученных нападать. Дрессировка, таким образом, способствует атавистическому развитию собачьей природы. Именно этому атавизму сейчас сопротивлялся мой пес…
Он был настороже. Он не перестал ненавидеть, но страх не давал ему атаковать. Время от времени Батька делал несколько маленьких шажков вперед, в такт собственному лаю, но тотчас же отступал. Шерсть у него на спине стояла дыбом, уши были прижаты к голове, а в его рычании теперь слышалось подлинное душевное раздвоение, отчаяние верного пса, чувствующего себя виновным в вероломстве.