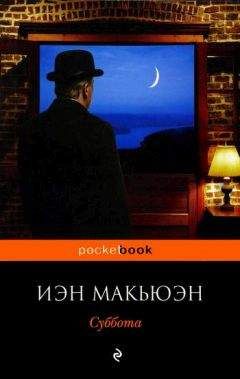— Думаю, беспокоиться не о чем. Утренние рейсы прибывают не раньше половины пятого.
— Да, наверное. — И, помолчав: — Думаешь, это джихадисты?
У Пероуна вдруг начинает кружиться голова, и кажется, что лицо сына куда-то уплывает. В первый раз он слышит от Тео это слово. Правильное ли? Звучит оно нестрашно, почти безвредно, особенно когда произносится легким тенором сына. К тому, что Тео говорит взрослым мужским голосом, Генри, кажется, так и не привык, хотя голос у него начал ломаться лет пять назад. В устах Тео — он как-то особенно мягко произносит это «дж» — слово звучит невинно, словно звук восточного струнного инструмента, взятого в группу ради экзотики. В идеальном исламском государстве, при строгих законах шариата, хирургам место найдется. А вот блюзовым гитаристам придется менять профессию. Но может быть, такого государства никто и не требует. Может быть, требований нет совсем. Только ненависть, в чистом виде. Невольно чувствуешь ностальгию по ИРА. Тогда ты, по крайней мере, знал, что тебя разрывают на части ради объединения Ирландии. Которое все равно близится, стараниями Иана Пейсли. Еще один кризис, длившийся тридцать лет, уходит в прошлое. Но теперь не тот случай. Исламисты-радикалы — не нигилисты: они мечтают об идеальном обществе, исламском. Они носители системы ценностей, о которой Пероун имеет лишь общее представление: их утопическая цель оправдывает любые средства, любую жестокость. Ради всеобщего вечного счастья не грех и вырезать миллион-другой…
— Ничего я не думаю, — отвечает наконец Пероун. — Поздно думать. Подождем новостей.
Тео вздыхает с облегчением. Как послушный сын, он готов поспорить с отцом, если без этого не обойтись, но вообще-то в четыре двадцать утра предпочитает молчать. Несколько минут оба не произносят ни слова, и молчание их не смущает. В последние месяцы они часто садятся вместе за стол и разговаривают обо всем на свете. Раньше такого не было. Даже странно: где же подростковый бунт, где хлопанье дверью, молчаливая ярость, без которой, как уверяют, немыслим переход к взрослению? Неужели все ушло в блюз? Говорят они, конечно, об Ираке; затем — об Америке, о власти вообще, о том, почему Европа не доверяет США, о мусульманах, их положении и претензиях, об Израиле и Палестине, о диктаторах, о демократии и о том, что больше всего интересует мальчишек, больших и малых: о ядерном оружии, спутниковой фотосъемке, лазерах, нанотехнологии. За кухонным столом — меню двадцать первого века: ну, что у нас сегодня на десерт? В прошлое воскресенье за ужином Тео изрек афоризм: «Важнее всего не думать о важном». Что это значит, объяснил так: «Знаешь, когда думаешь о больших важных вещах — ну там, о мировой политике, глобальном потеплении, голоде в бедных странах и так далее, — все выглядит просто ужасно, и понимаешь, что дальше будет только хуже, так что надеяться не на что. А когда думаешь о чем-нибудь маленьком и неважном — скажем, о девушке, с которой вчера познакомился, о новой песне, которую мы сейчас репетируем с Чесом, о том, что через месяц поедешь кататься на сноуборде, — понимаешь, что все замечательно. Так что это будет мой девиз: думай о неважном».
Вспомнив об этом сейчас, за несколько минут до новостей, Генри спрашивает:
— Как концерт?
— В основном были старые вещи. Отыграли почти все номера Джимми Рида. Ну, знаешь… — И он напевает несколько тактов; левая рука его при этом сжимается и разжимается, словно перебирает невидимые лады. — Народ с ума сходил. Не хотели слышать ничего другого. Немного обидно — мы вообще-то не для этого все затевали. — Однако он широко улыбается при этом воспоминании.
Настало время новостей. Снова всполохи, цветные спирали, мощные электронные аккорды и бессонный диктор с квадратной челюстью. А вот наконец и самолет: стоит на взлетной полосе, целый и невредимый, вокруг пожарные машины разбрызгивают пену, солдаты, полиция, мигалки, машины «скорой помощи» стоят наготове. Перед тем как перейти к рассказу, диктор воздает должное оперативной работе экстренных служб. Только после этого все объясняется. Самолет грузовой, российский «Туполев», летел из Риги в Бирмингем. Когда он пролетал к востоку от Лондона, загорелся один из моторов. Пилоты радировали на аэродром, запросили разрешения на посадку и попытались перекрыть доступ топлива к горящему мотору. Диспетчер провел их над Темзой и посадил в Хитроу. Посадка прошла нормально, оба пилота не пострадали. Какой был груз, не уточняется, но часть его — по-видимому, почта — уничтожена. Вторым по важности сообщением были антивоенные протесты, которые начнутся через несколько часов. Ханс Бликс отступил на третье место.
Кот Шредингера все-таки выжил.
Тео подбирает с пола куртку и встает. Двигается он скованно, словно в смущении.
— Вот видишь, — говорит он, — ничего такого страшного.
— Да, все обошлось, — отвечает Генри.
Ему вдруг хочется обнять сына — не только от облегчения, но и оттого, что Тео в конце концов получился таким славным парнем. Даже преждевременное прощание со школой идет ему в плюс: он смело шагнул туда, куда не осмелились заглянуть его родители, в неполных восемнадцать взял на себя ответственность за собственную жизнь. Но теперь они с Тео позволяют себе обняться, лишь встретившись после недельной разлуки. В детстве он любил ласки — и даже в тринадцать лет не стеснялся на улице держать отца за руку. Но этого уже не вернуть. Только Дейзи, когда она приезжает домой, имеет право на поцелуй перед сном.
Тео идет к дверям, и отец спрашивает:
— Пойдешь сегодня на этот марш?
— Мысленно поддержу. Мне еще песню учить.
— Тогда спокойной ночи, — говорит Генри.
— Ага. И тебе.
Открывая дверь, Тео говорит: «Приятного сна»; несколько секунд спустя, уже на лестнице: «Увидимся утром»; а еще через несколько секунд, уже с верхней площадки, доносится его мягкий голос с вопросительной интонацией: «Доброй ночи?» На каждую реплику отец отвечает — и ждет следующей. Тео всегда прощается так — по четыре, даже по пять раз, из какого-то суеверного желания оставить за собой последнее слово. Словно медленно-медленно разжимает сжатую ладонь.
Пероун всегда подозревал, что кофе может оказывать обратное действие. Похоже, так и случилось: не только нынешняя ночь, но, кажется, и вся неделя, и много-много предыдущих недель наваливаются на него, когда он тяжело поднимается из-за стола и идет выключать свет. По ступенькам поднимается с трудом: колени дрожат, и приходится держаться за перила. Вот так он будет чувствовать себя после семидесяти. Генри проходит через холл, прохлада каменных плит пола под босыми ногами чуть-чуть бодрит. Прежде чем подняться на второй этаж, останавливается перед двойными входными дверями. Они выходят прямо на тротуар, на улицу, примыкающую к площади; усталого Пероуна двери вдруг поражают своей неприступностью: три массивных бэнхемских замка, два чугунных засова, старые, как сам дом, две стальные цепочки, глазок, прикрытый медной пластинкой, коробочка, напичканная электроникой, — домофон, красная кнопка тревоги, сигнализация с мягко мерцающими во тьме цифрами. Сколько рубежей обороны, сколько приготовлений к битве: берегитесь, обитатели дома, нищие, грабители и наркоманы идут на вас войной!
Снова во тьме, стоя у кровати, он сбрасывает халат на пол и по холодной простыне подвигается ближе к жене. Она лежит на левом боку, спиной к нему, по-прежнему поджав ноги. Он прижимается к ней, обнимает ее за талию и притягивает к себе. Он целует ее в затылок, и она что-то бормочет сквозь сон — что-то ласковое, но нечленораздельное, как будто слово — тяжелый камень и его не повернуть. Восхождение на три лестничных пролета взбодрило Пероуна: глаза его широко открыты, незначительное повышение кровяного давления вызвало местное возбуждение в сетчатке, и перед ним, как по черной бескрайней степи, плывут пурпурные и ярко-зеленые туманные пятна, — плывут, но, стоит ему сосредоточить на них внимание, рассеиваются, раздвигаются, уходят на периферию, подобно театральному занавесу, открывая простор для новых сцен, новых мыслей. Думать ему ни о чем не хочется, но спать расхотелось. И он увидел предстоящий день — как тропинку в степи: после матча в сквош, который за него уже проиграла бессонница, предстоит поездка к матери. Он не может вспомнить, какое у нее лицо теперь. Почему-то представляет себе чемпионат графства по плаванию — сорокалетней давности, он видел только фотографии — и купальную шапочку в цветочек, в которой мама похожа на тюленя. Генри гордился матерью, хотя житье ней было нелегко. Зимой она таскала его в шумные муниципальные бассейны, где на бетонном полу раздевалок в холодных лужицах плавали оторванные лейкопластыри в розовых и сиреневых разводах; в самом начале лета возила его с собой на мрачные зеленые озера или к серому Северному морю. «Это же другая стихия!» — говорила она так, словно при одной мысли об этом Генри должен запрыгать от радости. Но он-то вовсе не желал никаких других стихий! Больше всего угнетал его сам момент погружения, острое и болезненное ощущение холода, поднимающееся все выше по втянутому, покрытому пупырышками веснушчатому животу, когда он послушно, на цыпочках, заходил в воду. Мать бросалась в волны и надеялась, что сын последует ее примеру. Ежедневное погружение в иную стихию, ежедневное чудо — вот чего она хотела и для себя, и для него. Что ж, теперь он с этим отлично справляется, вот только «иная стихия» уже не вода.