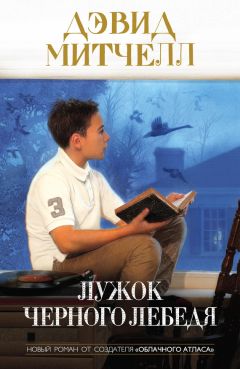До сих пор я кое-как выворачивался, но завтра утром в пять минут десятого окажусь в безвыходном положении. Мне придется встать на виду у Гэри Дрейка и Нила Броза и всего класса и читать вслух из книги мистера Кемпси «Простые молитвы для сложного мира». В тексте будут десятки запинательных слов, которые я не смогу заменить, и не смогу притвориться, что не знаю их, потому что вот они — напечатаны прямо на странице. Пока я буду читать, Висельник будет радостно забегать вперед, подчеркивая все свои любимые слова на «П» и на «С» и бормоча мне в ухо: «Ну-ка, Тейлор, попробуй выжать из себя это словечко!» Я знаю, что на глазах у Гэри Дрейка, Нила Броза и всего класса Висельник просто раздавит мне горло в кашу, изувечит язык, скомкает лицо. Хуже, чем у Джоуи Дикона.[3] Я буду запинаться так, как никогда в жизни еще не запинался. К четверти десятого моя тайна разнесется по всей школе, как ядовитый газ во время химической атаки. К концу первой перемены мне уже будет незачем жить на свете.
Вот самая чудовищная история, какую я когда-либо слышал. Пит Редмарли поклялся могилой своей бабушки, что это правда, значит, наверно, все на самом деле так и было. Один мальчик в шестом классе сдавал экзамены. У него были ужасные родители, которые все время на него давили, чтобы он учился только на «отлично», и когда этот мальчик пришел на экзамен, он просто сломался и даже не смог понять ни одного вопроса. И вот что он сделал: взял из пенала две шариковые ручки «Бик», наставил острыми концами себе на глаза, встал и со всей силы ударил головой о парту. Прямо в экзаменационном классе. Ручки проткнули ему глазные яблоки и вошли так глубоко, что из глазниц торчали только пеньки длиной в дюйм, и с них капало. Директор школы, мистер Никсон, замял дело, так что оно не попало ни в газеты, никуда. Ужасная, тошнотворная история, но лучше я убью Висельника таким образом, чем позволю ему убить меня завтра утром.
Я серьезно.
* * *
Подошвы туфель миссис де Ру громко стучат, поэтому я всегда знаю, когда она за мной идет. Ей сорок лет, а может, чуть больше; у нее волнистые волосы бронзового цвета, она носит крупные серебряные броши и одежду в цветочек. Миссис де Ру отдала хорошенькой регистраторше папку, неодобрительно цокнула языком при виде дождя за окном и сказала: «Никак, муссоны разгулялись в темных дебрях Вустершира!» Я согласился, что льет как из ведра, и быстро ушел с миссис де Ру. Пока другие пациенты не догадались, что со мной не так. Мы пошли по длинному коридору мимо указателей со словами вроде «Педиатрия» и «Ультразвуковое обследование». (В мой мозг никакому ультразвуку не проникнуть. Я его обману — буду перечислять в уме все спутники в Солнечной системе.)
— Февраль в этих местах ужасно мрачный, — заметила миссис де Ру. — Правда? Прямо не месяц, а какое-то утро понедельника длиной в двадцать восемь дней. Уходишь из дому — темно, возвращаешься — опять темно. А в такие дождливые дни живешь как будто в пещере за водопадом.
Я рассказал миссис де Ру то, что слышал про эскимосских детей — как они проводят время под лампами искусственного солнечного света, чтобы не болеть цингой, потому что на Северном полюсе зима длится большую часть года. Я посоветовал миссис де Ру купить лежак с лампами для загара, как в солярии. Она сказала, что подумает.
Мы прошли мимо кабинета, где воющему младенцу только что сделали укол. В следующем кабинете девушка возраста Джулии сидела в инвалидном кресле. Вместо одной ноги у нее ничего не было. Эта девушка наверняка согласилась бы взять мое запинание, лишь бы ей вернули ногу. Интересно, неужели нам, чтобы быть счастливыми, нужно чужое несчастье. Впрочем, это работает в обе стороны. После завтрашнего утра люди будут при виде меня думать: «Может, я и сижу в дерьме, но мне хотя бы не приходится быть на месте Джейсона Тейлора. Я хотя бы разговаривать умею».
* * *
Февраль — любимый месяц Висельника. Ближе к лету он впадает в спячку до осени, и я начинаю говорить получше. Надо сказать, что пять лет назад, после первой серии посещений миссис де Ру, ко времени, когда у меня началась сенная лихорадка, все решили, что мое запинание прошло. Но в ноябре Висельник просыпается опять, вроде Джона Ячменное Зерно наоборот. К январю он уже как новенький, и я снова начинаю ходить к миссис де Ру. В этом году Висельник злобствует как никогда. Две недели назад у нас гостила тетя Алиса, и как-то вечером я переходил лестничную площадку и услышал, как тетя внизу говорит маме:
— Честное слово, Хелена, ты вообще собираешься делать что-нибудь с его заиканием? Это же социальное самоубийство! Я никогда не знаю, то ли закончить за него фразу, то ли так и оставить в подвешенном состоянии.
Подслушивать страшно интересно, потому что узнаешь, что люди на самом деле про тебя думают. Но иногда от подслушивания портится настроение — по той же самой причине. Когда тетя Алиса уехала обратно в Ричмонд, мама усадила меня для разговора и сказала, что, наверно, мне не повредит снова сходить к миссис де Ру. Я согласился, потому что и сам хотел, но не просил об этом, потому что мне было стыдно, и еще потому что, когда я говорю о своем запинании, оно становится более настоящим.
* * *
В кабинете у миссис де Ру пахнет растворимым «Нескафе». Она беспрестанно пьет «Нескафе голд». У нее в кабинете два продавленных дивана, один ковер цвета желтка, пресс-папье в виде драконьего яйца, игрушечная многоэтажная автомобильная стоянка фирмы «Фишер-прайс» и огромная зулусская маска из Южной Африки. Миссис де Ру родилась в Южной Африке, но в один прекрасный день правительство велело ей покинуть страну в двадцать четыре часа, или ее посадят в тюрьму. Не потому, что миссис де Ру сделала что-то плохое, а потому, что правительство в Южной Африке так поступает с людьми, которые не согласны, что цветных надо сгонять в резервации, в глиняные хижины с соломенными крышами, без школ, больниц и работы. Джулия говорит, что южноафриканская полиция иногда не заморачивается с тюрьмами, а просто сбрасывает людей с крыши высотного здания и говорит, что они пытались бежать. Миссис де Ру и ее муж (он индиец, нейрохирург) сбежали на джипе в Родезию, но все имущество им пришлось оставить. Правительство забрало его себе. (Я все это знаю из интервью, которое миссис де Ру дала «Мальверн-газеттир».) Когда у нас зима, в Южной Африке лето, поэтому февраль у них — чудный жаркий месяц. У миссис де Ру до сих пор остался забавный акцент. Вместо «да» она говорит «до».
— Ну что, Джейсон? Как дела?
Обычно когда у тебя спрашивают, как дела, в ответ ожидают услышать только «Спасибо, хорошо», но миссис де Ру на самом деле интересно, как у меня дела. Поэтому я рассказал ей про завтрашний классный час. Мне почти так же стыдно говорить про свое запинание, как собственно запинаться, но к разговорам с миссис де Ру это не относится. Висельник знает, что с ней шутки плохи, поэтому в ее присутствии делает вид, что его нет. Это хорошо — значит, я все-таки способен разговаривать как нормальный человек, но и плохо — как миссис де Ру побьет Висельника, если он все время от нее прячется?
Миссис де Ру поинтересовалась, не просил ли я мистера Кемпси дать мне освобождение на несколько недель. Я сказал, что уже просил, и вот что он ответил: «Тейлор, каждому из нас в один прекрасный день придется взглянуть в лицо своим демонам, и для тебя настал этот день». На классных часах все ученики читают по очереди, по алфавиту. Мы дошли до буквы «Т», а раз моя фамилия Тейлор, значит, наступила моя очередь, и, по мнению мистера Кемпси, ничего не поделаешь.
Миссис де Ру издала звук, который означал «понятно».
Мы минуту помолчали.
— Как твой дневник — продвигается?
Дневник — это новая идея, поданная папой. Папа позвонил миссис де Ру и сказал, что, учитывая мою «тенденцию к ежегодным рецидивам», не мешало бы задавать мне побольше «домашних заданий». И миссис де Ру предложила мне вести дневник. Одну-две строчки в день. Записывать, где, когда и на каком слове я запнулся и как себя при этом чувствовал. Первая неделя выглядела так:
— Значит, скорее таблица, чем дневник в обычном понимании этого слова, — сказала миссис де Ру. (На самом деле я все это написал вчера ночью. Не то чтобы это неправда или что-то такое, это все правда, просто придуманная. Если бы я записывал каждый раз, как мне удалось обмануть Висельника, дневник скоро стал бы толще телефонного справочника.) — Очень информативно. И разлиновано чрезвычайно аккуратно.
Я спросил, следует ли продолжать вести дневник и на следующей неделе тоже. Миссис де Ру сказала, что если я перестану, мой отец будет разочарован, так что, по ее мнению, лучше продолжать.
Вслед за этим миссис де Ру достала метрогном. Метрогном — это такой перевернутый маятник, но без часов. Он отстукивает ритм. Он маленький (может быть, потому и называется «гном»). Их обычно используют, когда учатся музыке, но логопеды ими тоже пользуются. Нужно читать в такт ударам, вот так: «Вот за-жгу я па-ру свеч, ты в пос-тель-ку мо-жешь лечь, вот во-зьму я ост-рый меч, и го-лов-ка тво-я с плеч[4]». Сегодня мы читали слова на «Н», прямо из словаря, одно за другим. Под метрогном очень легко произносить слова — так же легко, как петь, но не могу же я таскать его с собой. Кто-нибудь — тот же Росс Уилкокс — скажет: «Тейлор, а это еще что за хрень?», за одну наносекунду отломит маятник и добавит: «Хлипкая штуковина».