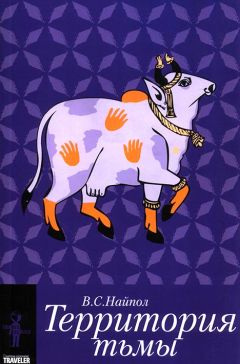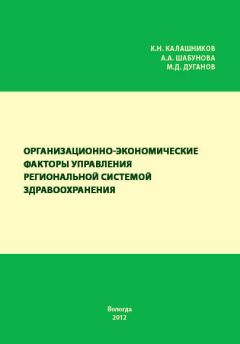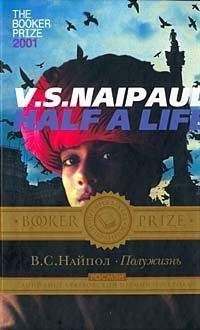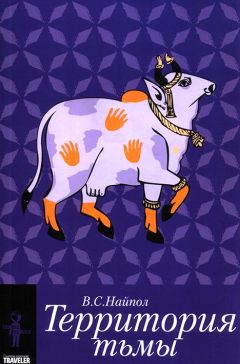Он был робок и говорил только тогда, когда к нему обращались, отвечая на вопросы, как человек, которому нечего скрывать, как человек, для которого будущее — никогда не служившее предметом размышлений — не представляет угрозы и, возможно, вовсе не имеет смысла. Рамон уехал с Тринидада, потому что лишился водительских прав. Его преступная карьера началась в ранней юности, когда он, почти ребенок, был арестован за вождение без прав; позднее его арестовали уже за то, что он сидел за рулем, еще находясь под запретом. Одно правонарушение повлекло за собой другое, и постепенно Тринидад перестал быть местом, где Рамон мог бы жить спокойно: жизни без автомобилей он не мыслил. Его родители наскребли немного денег, чтобы он мог добраться до Англии. Они сделали это из любви к нему, своему сыну; рассказывая об этом, он не обнаруживал никаких чувств.
Рамон не умел оценивать свои поступки с точки зрения нравственности: он был из тех людей, с которыми просто случаются те или иные события. Он оставил жену, а с нею двоих детей. «Думаю, меня ждет впереди еще что-то». Эти слова он проговорил без гордыни, типичной для выходцев из тринидадских трущоб. Он лишь констатировал факт; по его словам нельзя было понять, какого мнения держится он сам о своем уходе из семьи и о своих мужских качествах.
Испанское имя он носил потому, что его мать была отчасти венесуэлкой; он и сам некоторое время прожил в Венесуэле, пока его не выдворила полиция. Но он был индусом и сыграл свадьбу по индуистскому обряду. Наверное, для него эти обряды значили так же мало, как для меня, а может быть, даже меньше, потому что он рос одиночкой, никогда не имел оплота в семейной жизни вроде моей, и уже в раннем возрасте очутился в центре цивилизации, которая осталась для него столь же загадочной, как и новое перемещение в Челси.
Он был невинным существом, заблудшей душой, и одна только движущая страсть спасала его от животного состояния. Тот участок мозга (если только такой участок существует), что отвечает за решения и чувства, у Рамона был чистой страницей, на которой другие могли писать что угодно. Ему хотелось сесть за руль — он садился за руль. Ему нравился какой-нибудь автомобиль — он пускал в ход все мыслимые ухищрения и угонял его. Его бы рано или поздно поймали; с этим он никогда, похоже, не спорил и не сомневался в этом. Кто-нибудь говорил ему: «Мне нужен колпак ступицы для машины. Сможешь достать?» Рамон шел на улицу и крал первый попавшийся колпак для ступицы колеса. Его ловили; он никого ни в чем не винил. События просто случались с ним. Его невинность, которая отнюдь не была простотой, просто пугала. Он был невинен, как невинен сложный механизм. Его могло воодушевить желание доставить кому-нибудь радость. В доме, где он обитал, жила одна мать-одиночка; к ней и к ее ребенку Рамон относился с неизменной нежностью, опекал их, когда требовалось.
Но в нем жила движущая страсть. И с автомобилями он управлялся гениально. Молва о нем распространилась быстро; и уже несколько недель спустя его то и дело можно было увидеть в засаленной одежде, колдующим над машиной-развалюхой, а одетый в штаны из кавалерийского твила человек толковал с ним о деньгах. Рамон мог бы сколотить капитал. Но все деньги он тратил на новые машины и на штрафы, которые уже начал выплачивать в судах за кражу то лампочки, то какой-нибудь запчасти, которая понадобилась ему для завершения ремонта. У него не было необходимости красть — а он крал. Но все равно молва о его умелых руках продолжала распространяться, и без дела он не сидел.
А потом я услышал, что он попал в серьезную передрягу. Приятель по пансиону попросил его сжечь скутер. На Тринидаде если кто-нибудь хотел уничтожить автомобиль, то просто поджигал его на берегу мутной реки Карони, а потом сталкивал в воду. В Лондоне тоже была река.
Рамон погрузил скутер в фургон, принадлежавший ему в то время, и однажды вечером привез его на набережную Виктории. Прежде чем он успел поджечь скутер, появился полицейский — как всегда появлялись полицейские в жизни Рамона.
Я подумал, что, раз скутер так и не был подожжен, то дело пустяковое.
«Какое там, — возразил один обитатель пансиона. — Это же за-го-вор». Он проговорил это слово с трепетом: его тоже зачислили в заговорщики.
Так Рамон попал под суд присяжных, и я решил послушать, как будет разбираться его дело. Я не сразу нашел нужное здание суда («Вы сами вызваны в суд, сэр?» — спросил меня полицейский, и его любезный тон смутил меня не меньше самого вопроса); когда же я наконец попал в нужное место, мне показалось, будто я снова очутился на улице Сент-Винсент в Порт-оф-Спейне. Все заговорщики уже были там, и выглядели они как испуганные студенты. Они вырядились в костюмы, словно пришли на собеседование. Эти молодые люди, так любившие пошуметь и подразнить соседей по своей улице в Челси (они даже повадились стричь друг друга, как могли бы делать в Порт-оф-Спейне, прямо на тротуаре по воскресеньям утром — как раз когда местные жители мыли машины), теперь являли собой совершенно противоположное зрелище.
Рамон стоял особняком, тоже в костюме, но ни в выражении его лица, ни в тоне его приветствия ничто не показывало, что мы сейчас встретились в обстоятельствах, хоть немного отличных от обстановки его пансиона. С ним была девушка — простодушное создание; оделась она как на танцы. Похоже, оба испытывали не тревогу, а равнодушие; девушка тоже была из тех, с кем все время само собой случается что-то неприятное и непонятное. Куда больше них обоих волновался работодатель Рамона, владелец гаража. Он пришел дать показания о «характере» Рамона, и он тоже надел костюм — из жесткого коричневого твида. Лицо у него было красноватое и одутловатое, наверное, из-за сердечной недостаточности; за очками в розовой оправе постоянно моргали ресницы. Он стоял рядом с Рамоном.
«Хороший мальчишка, хороший мальчишка, — твердил владелец гаража. — Это всё его дружки». Странно, до чего сильным и трогательным может быть такое бесхитростное мнение о взаимоотношениях бесхитростных людей.
Суд проходил без особого драматизма. Начинался он довольно мрачно — с показаний полицейских и перекрестных допросов. (Рамон якобы сказал, когда его арестовывали: «Ага, мент, вот ты меня и поймал!» Я опроверг это утверждение.) Защищал Рамона молодой адвокат, предоставленный судом. Он оказался очень оживленным и щеголеватым, был вне себя от энтузиазма. Казалось, исход дела заботит его гораздо больше, чем самого Рамона, которого он без особой нужды призывал не унывать. Один раз он подловил судью на каком-то нарушении процессуального этикета и, мгновенно вскочив на ноги, с возмущенным видом сделал строгое внушение. Судья выслушал его с явным удовольствием и принес извинения. Похоже, мы оказались в питомнике для адвокатов: адвокат Рамона изображал лучшего ученика, судья — директора школы, а нам, публике на галерке, выпала роль гордых родителей. Когда судья начал подводить итоги — говоря медленно, торжественно, как и полагается на суде, — грозовая атмосфера сразу же рассеялась. Было совершенно ясно, что он понятия не имеет о тринидадских обычаях. Судья говорил, что ему очень нелегко поверить, будто попытка сжечь скутер на набережной Виктории — всего лишь глупая студенческая выходка; а вот намерение обмануть страховую компанию — дело серьезное… На галерее сидела индианка, очень красивая, она улыбалась и силилась подавить смешок всякий раз, как слышала остроту или очень изящную фразу. Судья чувствовал ее внимание, и подведение итогов превратилось в диалог между ними двумя — между пожилым мужчиной, уверенным в своем таланте, и красивой восприимчивой женщиной. Скованность присяжных (женщина в очках и шляпе подалась вперед, вцепилась в поручень, словно в расстройстве) значения не имела; и, похоже, никто — даже полиция — не удивился, когда был оглашен вердикт: невиновен. Защитник Рамона ликовал. Рамон оставался таким же безмятежным, как и раньше, а вот его товарищи-заговорщики вдруг показались совершенно измотанными.
Однако вскоре Рамон снова попал в беду, и на сей раз уже не нашлось владельца гаража, который бы вступился за него. Насколько я понял, он украл машину или вытащил из нее двигатель, так что починить ее стало невозможно; его на время упекли за решетку. Когда он освободился, то говорил, что несколько недель провел в Брикстоне[11]. «А потом я попал в одно место в Кенте». Я слышал это от одного из его бывших подельников, товарища по пансиону. Там Рамон превратился в комическую фигуру. А в следующий раз, когда я услышал о нем, мне сообщили, что он умер — погиб в автокатастрофе.
Он был ребенком, невинным существом, созидателем; человеком, для которого мир не приберег ни славы, ни сострадания; человеком, для которого не нашлось места. «А потом я попал в одно место в Кенте». В его словах не было ни юмора, ни рисовки. Одно место похоже на другое; в мире полно таких мест, где можно невидимкой влачить существование. Теперь его не стало, и мне захотелось подарить ему известность. Он исповедовал ту же религию, что и моя семья; мы оба были как бы пониженными в ранге представителями этой религии, и само это понижение казалось мне связующей нас нитью. Мы составляли крошечную, особенную частичку далекой, неведомой, невиданной страны, единственное значение которой для нас, если вдуматься, состояло в том, что мы были ее отдаленными отпрысками. Мне хотелось, чтобы с телом Рамона обошлись почтительно, мне хотелось, чтобы с ним обошлись в соответствии с древними обычаями. Только это и спасло бы его от бесследного исчезновения. Сходные чувства испытывал, наверное, древний римлянин, находясь в Каппадокии или в Британии; а Лондон был сейчас так же далек от сердцевины нашего мира, как — среди руин какой-нибудь античной виллы в Глостершире — Британия по-прежнему кажется краем, далеким от дома, и скорее походит на страну, что изображается на эмблематической карте с закрученными углами и частично заслоненной тучами, насланными херувимами; на страну туманов, дождей и лесов, откуда страннику вскоре предстоит торопливо отбыть обратно в теплую, знакомую землю. Но для нас такой земли больше не существовало.