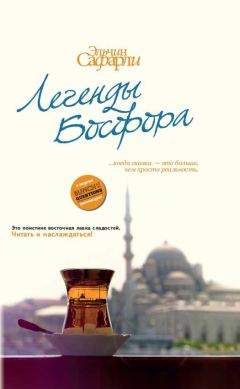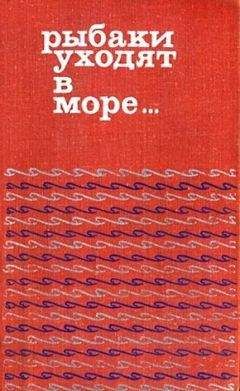У нас в квартале соседка есть Айгюль. У нее муж. Айгюль — тетка красивая. Статная такая. Светловолосая. Чем-то похожа на северных итальянок. Вдобавок «образованная» — закончила аж два курса университета. А там любовь-морковь, закрутило-понесло, дети-быт-кастрюльки-свекровь. Университет Айгюль бросила сразу после свадьбы, но все равно по меркам нашего квартала — «образованная».
Вот за эту «образованность», а также за непривычную богатую стать и непокорный подбородок Айгюль своим мужем бывает раз в неделю бита. А чтоб знала свое место и не высовывалась! И то правда — все бабы как бабы, а у этой взгляд свысока и походка неубиваемо-лебединая.
Айгюлин муж человек незлобивый, простой (сторожем в школе работает), меланхоличный, но порядки знает. Не может жена над мужем приоритетничать. Не положено. Поэтому в субботу, после вечернего азана, выпивает муж бутылочку ракы для нужного озверения и идет Айгюль бить. Бьет не жестоко, несильно, но значительно. Так, чтоб весь квартал слышал и понимал, кто в доме хозяин.
Не то чтобы Айгюль эту ситуацию считала нормальной, но не оспаривает. Этим она в квартале социально адаптируется, получает необходимую долю сочувствия соседок. Видите ли, если б она вся такая белокурая, полногрудая и образованная была еще и не бита — всё. Считай, вечный бойкот и шушукания за спиной. А так — всё в порядке. Как у всех.
Опять же не потому, что тут в каждой семье жен бить принято. Нет. Принято страдать. Вместо регулярного битья может выступать регулярная безработица, чахотка, шизофрения, игромания, дурная сноха, непослушный сын, нахальный сват, брат в тюрьме или армии, или какой непроходящий таинственный сглаз… Несчастным можешь ты не быть, но обделенным быть обязан. Отсутствие социальной депривации означает социальную несостоятельность.
Вот поэтому-то Айгюль не слишком огорчена, и того, что она вот уже лет двадцать как еженедельно мужем бита, не стесняется.
— Мой опять вчера напился, с катушек съехал, — жалуется она, демонстрируя соседкам цветастый бланш под глазом.
— Вах, вах, вах. Негодяй, — качают головами наши местные сплетницы, и социальное равенство восстановлено. И можно сидеть на табуреточках в садике и спокойно пить чай.
Айгюль, хоть и «образованная», давно уже наша — квартальная. Хотя где-то с краю стучит в ней копытцами непокоренный феминистический бес, тот, что поселился в ней двадцать лет назад вместе с цитатами из переводной литературы и местной прокоммунистической публицистики.
Этого беса Айгюль может показать лишь мне. Краешком хвоста. Изредка. И то лишь потому, что я русская. Потому что я здесь ненадолго. Потому что передо мной, «европейской женщиной», Айгюль нестерпимо стыдно. Не за себя, за Турцию — страну светского ислама. Айгюль стыдно так, что она даже прикрывает бланш ладонью и слишком часто пожимает плечами. И говорит так страстно, словно только что вернулась с лекции по французскому символизму.
— Видишь ли, Лярис. Исламское общество слишком традиционно. Патриархально. Наши женщины привыкли подчиняться, наши мужчины привыкли подчинять. Не мне менять устоявшийся уклад. Но я так завидую европейским женщинам! Особенно их отношениям с мужьями.
— Почему это? — интересуюсь я.
— Европейских женщин мужья не бьют, — Айгюль вздыхает завистливо. — Они их уважают.
— А то! — гордая за Европу, киваю я.
* * *
Вы уже, наверное, представляете и мой квартал, и людей, что там живут, и тетку Айше — квартальную сплетницу, и некрасивую грустную Фатму — вдову кладбищенского сторожа, и веселую Фиген — беззубую и бесшабашную, Ахмета — бакалейщика с выдающимися усами, его дочку Айшегюль. А может, и не представляете вовсе. Да и ладно. А я эти лица помню, вижу перед собой. Простые, уставшие, нестерпимо нерусские и в то же время странно нечужие лица. Они хорошие. Правда-правда. С непривычки наверняка они покажутся странными, шумными, глупыми, даже пошлыми. Все эти их проблемы «кто кого избил, кто на ком женился, кто вышел замуж девственницей, а кто нет, кто купил новую стиральную машинку, и почему это у соседки синяк под глазом» выглядят убого и наивно. Думаешь: «Вот ведь дети гор…» Но это не так. Они просто другие. И когда наконец-то поймешь степень этого «другие», все становится на свои места.
Они просты и прекрасны. На самом деле! У них есть Босфор, холмы, мужские кофейни и девушки-птички, завернутые с ног до головы в чаршафы. У них есть лукум и жареные мидии, у них есть грустные песни про любовь и смерть — «тюркю», и грустные, но по-другому песни про любовь и смерть — «арабески». Наши русские «страдания» по сравнению с этими заунывными, душераздирающими воплями выглядят наивно, по-северному прохладно.
Любовь, кровь, смерть, опять любовь, недосуицид или даже досуицид, и все обязательно рыдают. С раннего детства они живут внутри бесконечной мелодрамы. Иначе не могут, не привыкли, не желают. Мелодрама дарит необходимый адреналин, придает и без этого цветной средиземноморской жизни блестючие оттенки. Да и нельзя по-другому жить под синим-пресиним небом, под оранжевым солнцем, среди цветущих мандаринов и олив. Нельзя. И жаркая восточная кровь пульсирует в сердечно-сосудистых системах, подгоняемая томительным ритмом свадебных барабанов — давулов. Бум, бум, бум, бум… Любовь, кровь, смерть, опять любовь…
«Я люблю, а меня нет. Умру за любовь», — и в бездонных глазюках нерусская страсть. Эту фразу и этот взгляд турецкие девочки и мальчики начинают выдавать уже лет с пяти. С зари и до зари шумит аплодисментами мыльная опера нон-стоп. Тут у каждого есть свое амплуа. Примы, герои, первые любовники, инженю, наперсники и наперсницы, матроны, благородные отцы и злодеи. А если вдруг ты выпадаешь из немудреного сюжета, то немедля становишься всего лишь зрителем — почти ненужным аксессуаром на этом празднике жизни. Им не нужен зритель, достаточно огней рампы, вечных, как звезды, и декораций, непостоянных, как волна.
Я там поначалу как раз была именно зрителем. Необученная ни одной из предлагаемых ролей, не желающая примерить единственно подходящие мне шапочку «шутихи» или очки «суфражистки», я очутилась в партере.
И офигела.
Люблю — не люблю, уйдешь — зарежу, вскрою вены — убьюсь об стену… Любовь.
Негодяй ее обманул и бросил, она стала проституткой от горя и спилась… Любовь.
Развратница обещала выйти замуж, не вышла, он бросился в Босфор… Любовь.
Несчастная девушка заболела чахоткой, когда увидела его с другой… Любовь.
Я, разумеется, плакала, сочувствовала, как и положено зрителю. Но как я ржала шепотом. Хм, тоже мне «любовь». Особливо хороша была одна соседка восемнадцати лет от роду, которая распахивала себе вены с периодичностью раз в месяц. Главное, что каждый этот раз в месяц весь квартал скапливался возле девицыного дома и ахал, охал, и рвал на себе волосы в знак солидарности, а потом все по очереди ходили к барышне в больничку, носили соболезнования и молоко. Казалось бы, после пятого раза надо бы забыть про девчонку с ее любовью… Ан нет!
Я ржала и в перерывах между отделениями бегала покурить. Но шло время… Припекало солнце, и плескался Босфор. Шло время. Я разучила пару арабесок про бедного лесника и ветреную дочь паши. Я изучила классику турецкого кинематографа, мало чем отличающуюся от шедевров Болливуда. Я выслушала миллион квартальных и околоквартальных историй. И однажды поняла, что не всегда «мыло» это мыло. Что иногда все эти кукольные спектакли на самом деле трагедии. Потому что ЛЮБОВЬ.
* * *
Гюльшен-абла[9] — сухая ветка, головешка, просмоленная рыба-сельдь — жила в доме под номером 11. Худая, коротко стриженная, с недовольно стиснутыми губами и вечной цыгаркой в коричневых от табака пальцах. На тощих плечиках — кофтейка неопределенного цвета, на тощей заднице — трикотажные штанцы. Пластмассовые шлепки стискивают растоптанные ступни, ногти съедены грибком. Гюльшен у нас не любили за тяжелый нрав, хриплый голос и вонючее курево. После нее приходилось дом проветривать часа три, а то и поболе — смолила тетка не переставая. У Гюльшен имелся супруг. То есть он имелся, но где-то в тюрьме, куда бедолагу посадили за «сущую безделицу» (цитирую саму Гюльшен) — за разбой. Он, видишь ли, напал на какую-то «богатую стерву» и вырвал у нее из рук мобильный телефон. Повязали разбойничка сразу, поскольку дело происходило внутри торгового центра, утыканного камерами видеонаблюдения. Неудачливый али-баба не успел даже дойти до выхода, как его подхватили под белы рученьки, отвели в кутузку. Пострадавшая написала заяву, или что они там пишут, и мужу Гюльшен впаяли приличный срок.
Гюльшен возмущалась: «А что ей, телефона, что ли, жалко… У самой, поди, штук десять, а то и пятнадцать». Тут всем полагалось кивать, причитать «вах-вах-вах» и предполагать, что у «стервы» телефонов минимум двадцать и уж одним-то она могла пожертвовать без обращения в полицию.