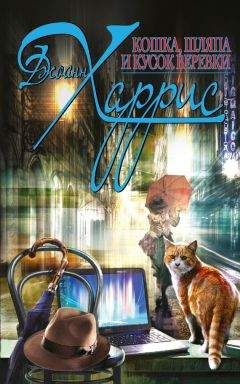1 ноября, четверг
День всех святых
Сегодня Анук опять какая-то беспокойная. Возможно, из-за вчерашних похорон, а может, на нее просто этот ветер так действует. Такое с ней порой бывает, и она, готовая в любую минуту расплакаться, мечется, как дикая лошадка, становясь под воздействием этого ветра упрямой, безрассудной и чужой. Моя маленькая незнакомка.
Знаете, я часто ее так называла, когда она была еще совсем маленькой и на свете нас было только двое. «Маленькая незнакомка» — словно я у кого-то ее позаимствовала и когда-нибудь этот кто-то придет и заберет ее у меня. В ней всегда это было — и непохожесть на других, и особенный взгляд, когда кажется, что ее глаза видят все гораздо дальше и глубже, а мысли и вовсе бродят где-то за пределами нашего мира.
«Одаренная девочка, — говорит ее новая учительница. — Необычайно развитое воображение и удивительно обширный для ее возраста запас слов!» Но, говоря это, учительница смотрит так, словно богатое воображение подозрительно уже само но себе, словно это признак чего-то дурного.
Что ж, моя вина. Теперь-то я это понимаю. А тогда мне казалось совершенно естественным воспитывать ее согласно представлениям моей матери. Это обеспечивало определенную перспективу, позволяло иметь некие собственные традиции, как бы заключало нас в магический круг, внутрь которого остальной мир проникнуть не мог. Но если он не мог туда проникнуть, то и мы не могли выйти оттуда. Мы оказались пойманными в ловушку, заключенными в некий уютный кокон, который, впрочем, сами же и создали, и, став вечными чужаками, существовали как бы отдельно от всех.
Во всяком случае, так было еще четыре года назад.
Но с тех пор мы живем во лжи, уютной и удобной.
Пожалуйста, не смотрите так удивленно. Покажите мне любую мать, и я докажу вам, что она — лгунья. Мы рассказываем своим детям не о том, каков окружающий мир, а о том, каким ему следовало бы быть. Говорим, что там нет ни чудовищ, ни призраков, что если поступать хорошо, то и люди будут делать тебе добро, что Матерь Божья всегда будет рядом и защитит тебя. И, разумеется, мы никогда не называем это ложью — ведь у нас самые лучшие намерения, мы хотим своим детям только добра, — но тем не менее это самая настоящая ложь.
После того, что случилось в деревушке Ле-Лавёз, выбора у меня не осталось. Любая мать поступила бы точно так же.
— Что же это было такое? — все спрашивала у меня Анук. — Скажи, мам, неужели это из-за нас?
— Нет, это просто несчастный случай.
— Но тот ветер… ты же говорила…
— Ложись-ка лучше спать.
— А мы не могли бы немного поколдовать и как-нибудь это исправить?
— Нет, не могли бы. Да это и не колдовство, а просто детские забавы. Ни магии, ни колдовства не существует, Нану.
Она очень серьезно посмотрела на меня и сказала:
— Нет, существует. Так и Пантуфль говорит.
— Девочка моя дорогая, так ведь и самого Пантуфля тоже на самом деле не существует.
Нелегко это — быть дочерью ведьмы. Но быть матерью ведьмы еще труднее. Так что после происшествия в Ле-Лавёз я оказалась перед выбором. Если я скажу своим детям правду, то и их тоже приговорю к той жизни, какую всегда вела сама, — к вечным скитаниям, к полному отсутствию стабильности, покоя и безопасности, к жизни на чемоданах, к тому, что им всегда придется бежать наперегонки с этим ветром…
Если я солгу — то мы будем как все.
И я лгала. Я лгала Анук. Я говорила ей, что все это выдумки. Что нет никакой магии; что колдовство бывает только в сказках. Что нет таких потусторонних сил, которые можно было вызвать условным стуком и проверить, на что они способны. Что не существует ни хранителей домашнего очага, ни ведьм, ни магических рун, ни заклятий, ни могущественных тотемов, ни волшебных кругов на песке. Все необъяснимое стало у нас называться Случайностью или Несчастным Случаем — да, с большой буквы! — и неожиданная удача, и тайный зов, и дар богов. А также Пантуфль — низведенный до положения «воображаемого дружка», на которого теперь совсем не обращают внимания, хотя норой даже я все еще вижу его, пусть всего лишь краем глаза.
Но теперь, увидев его, я отворачиваюсь. И закрываю глаза, пока не исчезнут все цвета, все краски.
После Ле-Лавёз я убрала все те вещи с глаз долой, понимая, что Анук, возможно, будет возмущена — и даже на некоторое время меня возненавидит, возможно, — но все же надеялась, что когда-нибудь она поймет.
— И тебе ведь придется стать взрослой, Анук, и научиться отличать реальное от вымышленного.
— Зачем?
— Так лучше, — говорила я ей. — Подобные вещи, Анук… они как бы отделяют нас от других людей. И мы становимся не такими, как все. Неужели тебе нравится быть не такой, как все? Разве тебе не хочется жить вместе со всеми, хотя бы на этот раз? Завести друзей и…
— Но ведь у меня были друзья! Поль и Фрамбуаза…
— Мы не могли там оставаться. После того, что случилось, никак не могли.
— И еще Зезет и Бланш…
— Это вечные странники, Нану. Речной народ. Ты же не можешь всю жизнь прожить на таком суденышке — во всяком случае, если действительно хочешь ходить в школу…
— И Пантуфль…
— Воображаемые друзья не считаются, Нану.
— И еще Ру, мама. Ведь Ру был нашим другом.
Я промолчала.
— Ну почему, почему мы не могли остаться с Ру? Почему ты не сообщила ему, где мы?
Я вздохнула:
— Все это очень сложно, Нану.
— Я по нему скучаю.
— Я знаю.
Ну, для Ру вообще все очень просто. Делай что хочешь. Бери что хочешь. Держи путь туда, куда влечет тебя ветер. Для Ру этого вполне достаточно. Ему этого довольно для счастья. Но я-то знаю, что все иметь невозможно. Я пробовала идти этим путем. И знаю, куда он ведет. И как потом бывает тяжко, ох как тяжко, Нану.
Ру сказал бы: «Ты слишком много тревожишься». Ру с его вызывающе рыжими волосами, с его скупой улыбкой на его обожаемой речной посудине под вечно движущимися звездами. «Ты слишком много тревожишься». Возможно, он прав; несмотря ни на что, я действительно слишком много тревожусь. Меня тревожит то, что у Анук в новой школе нет друзей. И то, что Розетт, такая живая и умненькая, до сих пор не говорит, хотя ей уже почти четыре года, словно она — жертва какого-то злобного заклятия, некая принцесса, онемевшая от страха перед тем, что могут поведать ее уста.
Как объяснить это Ру, который ничего не боится, никем не дорожит и ни за кого не тревожится? Быть матерью значит жить в вечном страхе — в страхе перед смертью, болезнью, утратой, несчастным случаем, опасаясь любого чужака или того Черного Человека, страшась даже тех повседневных мелочей, которые каким-то образом ухитряются сильнее всего уязвить нас, — раздраженного взгляда, сердито брошенного слова, нерассказанной на ночь сказки, забытого поцелуя, того ужасного момента, когда для дочери мать перестает быть центром мира и становится просто еще одним спутником, вращающимся вокруг некоего солнца, менее важного, чем ее собственное.
Со мной этого еще не произошло, по крайней мере пока. Но я замечаю это в других детях; я вижу это в девочках-подростках с надутыми губами, мобильными телефонами и взглядом, исполненным презрения ко всему миру. Я разочаровала Анук; я это понимаю. Я не такая мать, какую она хотела бы. И в свои одиннадцать лет она, даже будучи такой умницей, все же слишком юна, чтобы понять, чем я пожертвовала и почему.
«Ты слишком много тревожишься».
Ах, если бы все было так просто!
«Но ведь это действительно просто», — звучит у меня в ушах его голос.
Когда-то, возможно, и я так думала, Ру. Но не теперь.
Интересно, неужели сам он ничуть не изменился? Ну а меня он, наверное, и вовсе не узнает. Я иногда получаю от него весточки — он раздобыл мой адрес у Бланш и Зезетт, — но очень короткие и только на Рождество и в день рождения Анук. Я пишу ему на адрес почтового отделения в Ланскне; зная, что он иногда проплывает мимо этого городка. О Розетт я ни в одном из своих писем не сказала ни слова. Как и о нашем домовладельце Тьерри, который проявил по отношению к нам столько доброты, великодушия и терпения, что у меня просто не хватает слов.
Тьерри Ле Трессе пятьдесят один год, он разведен, у него есть взрослый сын, он прилежно ходит в церковь и надежен, как скала.
Не смейтесь. Мне он очень нравится.
Интересно, а что он находит во мне?
Я теперь, глядя в зеркало, не вижу там себя; так, ничего не говорящее лицо женщины за тридцать. Самая обыкновенная женщина, не наделенная ни особой красотой, ни особым характером. Такая же, как все прочие; в сущности, именно такой я и хотела стать, но почему-то сегодня мысль об этом приводит меня в полное уныние. Возможно, на меня так подействовали похороны, и та печальная полутемная часовня, украшенная цветами, оставшимися от предыдущего покойника, и опустевшая комната наверху, и абсурдно громадный венок от Тьерри, и равнодушный священник с насморочным носом, и рев труб из потрескивающих усилителей, исполнявших «Нимрода» Элгара.[20]