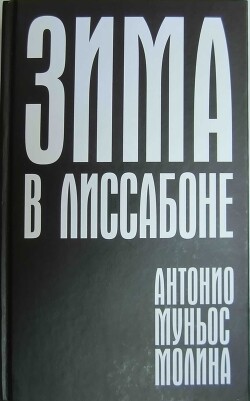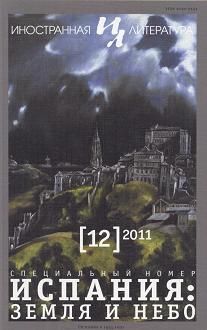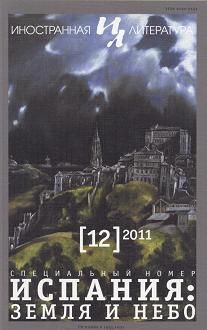— Когда он вернулся?
— Не знаю. Он должен был уехать на два или три дня. Но я почти две недели ничего не слышал о Лукреции. Я просил Флоро Блума, чтобы он звонил им домой, но никто не отвечал, и она больше не оставляла мне записок в баре. Однажды поздно вечером я решился позвонить сам, и кто-то — не знаю, Малькольм или она сама — взял трубку и сразу же повесил ее, ничего не сказав. Я бродил по улице, где она жила, следил за входом в дом из кафе напротив, но так и не видел, чтобы они выходили, и даже вечером не мог понять, дома ли они, потому что окна были закрыты ставнями.
— Я тоже тогда звонил Малькольму: хотел спросить про свои восемьсот долларов.
— Ты говорил с ним?
— Конечно, нет. Они прятались?
— Наверное, Малькольм готовил побег.
— Лукреция тебе ничего не объяснила?
— Сказала только, что они уезжают. У нее не было времени на подробности. Я был в «Леди Бёрд», уже стемнело, но Флоро еще не открыл заведение. Я репетировал что-то на фортепиано, он расставлял столики, и тут зазвонил телефон. Я перестал играть, при каждом звонке у меня замирало сердце. Я был уверен, что на этот раз звонит Лукреция, и боялся, что телефон замолкнет. Флоро целую вечность не брал трубку — сам знаешь, как медленно он ходит. Когда он поднял трубку, я стоял уже посреди бара, не решаясь подойти. Флоро произнес что-то, посмотрел на меня, качая головой, несколько раз сказал «да» и повесил трубку. Я спросил, кто звонил. «Лукреция, кто же еще, — ответил он. — Ждет тебя через пятнадцать минут в аркаде на площади Конституции».
Наступил вечер начала октября, один из тех ранних вечеров, которые застают врасплох, когда выходишь на улицу, так же, как зимний пейзаж за окном, когда просыпаешься в поезде, который привез тебя в чужую страну, где уже наступила зима. Было еще не поздно; когда Биральбо входил в «Леди Бёрд», в воздухе еще догорал тепловатый желтый отблеск, но когда он вышел из бара, уже стемнело и дождь с яростью прибоя колотил о прибрежные скалы. Он бросился бежать, высматривая такси, — ведь «Леди Бёрд» далеко от центра, у самой бухты. Когда наконец машина подъехала, он уже промок до нитки и никак не мог выговорить, куда ему надо. Он смотрел на светящиеся в темноте часы на доске приборов и, не зная, во сколько вышел из «Леди Бёрд», боялся, что заблудился во времени и никогда не доберется до площади Конституции. А даже если и доберется, если в этом хаосе улиц и автомобилей такси найдет дорогу, проникнет за плотную пелену дождя, которая падала снова, едва ее раздвигали дворники, может быть, Лукреция уже ушла, пять минут или пять часов назад — он не мог определить, как и куда текло время.
Выйдя из такси, он не увидел ее. Свет фонарей на углах площади не достигал сырого и сумрачного пространства под арками. Он услышал шум отъезжающей машины и замер — оцепенение свело на нет всю спешку. На секунду он даже забыл, зачем приехал на эту темную, пустынную площадь.
— И тут я ее увидел, — сказал Биральбо. — Я совершенно не удивился, вот как сейчас, если закрою глаза, а потом открою и снова увижу тебя. Она стояла, прислонившись к стене, около ступеней библиотеки, в темноте, но белую блузку было видно издалека. На ней была летняя блузка, а сверху накинут темно-синий жакет. По тому, как она улыбнулась, я понял, что поцелуев не будет. Она спросила: «Видишь, какой сегодня дождь?» И я ответил: «Да, в фильмах, когда герои расстаются, всегда льет как из ведра».
— Вы говорили об этом? — спросил я, но Биральбо, кажется, не понял, что меня поразило. — После двухнедельной разлуки это все, о чем вам хотелось поговорить?
— У нее тоже были мокрые волосы. Глаза на этот раз не блестели. В руках она держала большой полиэтиленовый пакет, потому что сказала Малькольму, что ей нужно забрать платье из чистки, так что времени побыть со мной у нее почти не было. Она спросила, откуда я знаю, что это наша последняя встреча. «Из фильмов, — ответил я. — Когда идет такой дождь, кто-то уезжает навсегда».
Лукреция посмотрела на часы — этого жеста Биральбо боялся с тех самых пор, как они познакомились, — и сказала, что у нее есть еще десять минут, чтобы выпить кофе. Они вошли в единственный открытый на площади бар, грязное, пропахшее рыбой заведение, — это показалось Биральбо более страшной несправедливостью, чем краткость встречи или отстраненность Лукреции. Иногда человек за долю секунды понимает, что он вмиг лишился всего, что ему принадлежало: так же, как свет распространяется быстрее звука, осознание приходит быстрее боли и ослепляет, как молния в темноте. Поэтому тем вечером Биральбо, смотря на Лукрецию, ничего не чувствовал и до конца не понимал ни значения ее слов, ни выражения лица. Настоящая боль пришла несколько часов спустя, и тогда ему захотелось воскресить в памяти каждое слово их разговора, но сделать этого он не смог. Зато понял, что отсутствие и есть это неопределенное ощущение пустоты.
— Она не сказала тебе, почему они уезжают так поспешно? Почему на грузовом корабле с контрабандистами, а не на самолете или на поезде?
Биральбо пожал плечами: нет, ему даже не пришло в голову задавать такие вопросы. Заранее зная ответ, он попросил Лукрецию остаться, попросил, но не умолял, и всего один раз. «Малькольм убьет меня, — ответила Лукреция, — ты же его знаешь. Вчера он мне снова показывал свой немецкий пистолет». Она сказала это тоном, в котором никто бы не различил страх, как будто то, что Малькольм может убить ее, не страшнее, чем опоздать на встречу. «В этом была вся Лукреция, — сказал Биральбо с ясностью человека, к которому наконец пришло понимание сути, — в ней вдруг угасал всякий пыл, ей как будто становилось безразлично потерять все, что у нее есть и к чему она стремится. Словно ей никогда это и не было важно», — уточнил он.
Она даже не притронулась к своему кофе. Они поднялись одновременно и замерли, разделенные столиком и шумом бара, — будто уже в будущем, где их разъединяло расстояние. Лукреция посмотрела на часы и, прежде чем сказать, что ей пора идти, улыбнулась. На мгновение эта улыбка стала похожа на ту, которой она улыбалась две недели назад, когда перед рассветом они прощались у двери, на которой золотыми буквами было написано имя Малькольма. Биральбо продолжал стоять на месте, когда фигура Лукреции уже исчезла в тени аркады. На обороте визитной карточки Малькольма Лукреция карандашом написала какой-то берлинский адрес.
Глава V
Эта песня, «Lisboa». Я слушал ее и снова переносился в Сан-Себастьян — так возвращаются в города во сне. Города забываются быстрее лиц: где прежде были воспоминания, возникают угрызения совести или пустота, и нетронутым образ города, как и лица, остается только там, где сознание не смогло истончить его. Города снятся, но запомнить увиденное удается не всегда, да и все равно образы растают через пару часов или, еще хуже, через пару минут, стоит наклониться над раковиной, умыться холодной водой или отхлебнуть кофе. Эта тоска неполного забвения, кажется, была совершенно чужда Сантьяго Биральбо. Он говорил, что никогда не вспоминает о Сан-Себастьяне: он хочет быть как киногерои, у которых нет биографии до начала действия, нет прошлого, а есть лишь властные черты. В тот воскресный вечер, когда Биральбо говорил об отъезде Лукреции и Малькольма — мы снова выпили лишнего, и он добрался до «Метрополитано» поздно и далеко не трезвым, — на прощание он сказал мне: «Представь, что мы впервые встретились здесь. Что ты разговаривал не с давним знакомым, а просто с каким-то парнем, который играет на фортепиано». И, кивнув на афишу своей группы, добавил: «Не забывай: теперь я — Джакомо Долфин».
Он говорил, что музыка лишена прошлого, но это совсем не так. Потому что эта его песня, «Lisboa», не что иное, как чистое время, нетронутое и прозрачное, словно герметично закупоренное в стеклянном сосуде. Это и Лиссабон, и Сан-Себастьян разом — так во сне не удивляешься, что в одном лице сливаются черты двух человек. Сначала слышалось что-то вроде шороха иглы проигрывателя перед тем, как зазвучит запись, потом этот звук перерастал в шуршание щеточек по тарелкам ударной установки, затем — в стук сердца близкого человека. И только потом труба осторожно начинала выводить мелодию. Билли Сван играл, будто боясь разбудить кого-то, а через минуту вступало фортепиано Биральбо; его звуки то нерешительно показывали дорогу, теряясь в темноте, то раскрывались во всей полноте, обнажая рисунок мелодии, словно давая возможность путнику после блужданий в тумане подняться на холм, с которого виден город, страшно далекий в мутноватом освещении.