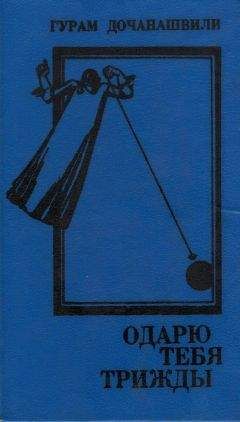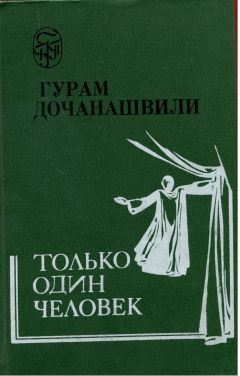«Теперь вы, голубчики, узнаете, как следует напрягать тело, и станете сильными, это вам пригодится для ватерполо! — кричал им сверху Рихоберто Даниэль Жустинио Рексач. — Ведь вы ощущаете в себе силу? Вот это, понимаю, тренировка!» А превратившиеся в одни сплошные мускулы восстанавливаемые нещадно напирали друг на друга, леденея от холода; юный Джанкарло неистово орал, кто-то другой, совершенно обессилев и превратившись буквально в тряпку, уронил голову на грудь, но когда Рексач шмякнул ему прямо в затылок склизким комом, живо встрепенулся и с отчаяния разодрал кому-то щеку железными ногтями. «Хорошо, молодцы-ы!» — поощрительно трубил Рексач.
... И хотя Бесаме долго после этого драил кирпичом свое опоганенное тело, с него все не сходила эта омерзительная осклизлость, а когда, подойдя к дому, он увидел Привратную Району, которая сказала ему: «Поскорее, Бесаме, как бы нам не опоздать на концерт», то спросил только: «Что за концерт?» — «Ты что, не помнишь? — удивилась она и торжественно объявила: — Играют Моцарта». А Бесаме в ответ: «Да пошел он...»
Голос у него был злобный и какой-то совсем чужой.
13
Будь ты хоть кто, пусть даже и фантаст, тебя тянет к общению с людьми, но нашему тоскующему Афредерику уже некого было ждать в полночь и за полночь на Касересе, один остался наш Афредерик Я-с.
С холма внизу виднелся городок, немного и наш с вами, погруженный в тьму вошедшей во власть ночи... Лишь там-сям мерцали слабые огоньки да подремывали бледные фонари на улицах. Весь Алькарас спал мертвецким сном, и только в каком-то углу, укутанный в долгополый плащ, как младенец в пеленки, стоял отверженный всеми, отлученный от своей возлюбленной разбойник, и при малейшем шорохе вздрагивала его рука, сжимающая нож.
Но нет, где там, ничего и похожего на шорох не слышалось, хотя в несметном движении на мирно спящий городок безостановочно сыпал и сыпал снег. Да, сыпал снег...
С беззвучным воем тяжело нависли над Алькарасом хмурые, грубо взрыхленные тучи, и снег печально садился на все без разбору. В рано наступивших сумерках рядовые алькарасцы молча наблюдали из своих окошек снегопад, примечая, как даже в чахлом, бесчувственном свете фонарей внезапно вспыхивали искорками падающие из темноты снежинки. Верно, мглисто-студеная ночь была виною тому, что никто не показал носа на улицу, кроме фантаста Афредерика да того сжимавшего нож разбойника, но Афредерику-то что, он был невидимкой, на него совершенно не падал никакой снег, а вот на плечах и на голове того, что притаился в засаде, выросли целые груды сверкающе-белого, а из комнаты будто чуть фиолетоватого, на самом же деле белого-пребелого и холодного-прехолодного снега. И бежать-то на улицу было некому — дети спали, а Комнатная Рамона сидела у жарко пылающего огня, и на ней играло множество прыгающих изломанных теней.
А тому, о ком думала Рамона Тепла, тому, представьте себе, вовсе не было холодно, хотя и стоял он по самое горло в воде — разгоряченные усиленной тренировкой, до чертиков наплававшиеся восстанавливаемые, держась за борта бассейна, отдыхали, а ихний Рексач прохаживался взад-вперед по тому же борту, тяжело ступая грубыми сапожищами на толстой подметке на пальцы своих питомцев, и тем часом давал им наставления:
— Сама жизнь — ватерполо, сама жизнь, а для каждого гражданина главное — выйти в жизнь победителем. Но стать победителем не так просто — для этого надо кого-то победить, а для этой цели существует тысяча уловок, которым ничто вас не научит лучше, чем ватерполо, мои голубочки.
Пройдется, остановится на чьих-нибудь пальцах на некоторое время и опять давай ходить.
— Вы должны быть беспощадными, мои дорогие, потому что ты пощадишь кого-то, а он, глядь, тебя не пощадит, так не лучше ли первым проявить беспощадность, а, что скажете, мои скворушки?
У камина сидела вся сухая, разгоревшаяся от жаркого огня Рамона, но что-то очень злое и безжалостное холодило ей сердце, знать, творилось где-то неладное...
— Вот ты, мой дружок, и еще вот ты, мой Тахё, плывите к середке. Та-ак... А теперь ты, мой славненький малыш Джанкарло, посильнее откинь ногу и наотмашь врежь хорошенько под микитки Тахё, лучше пяткой.
— А-а... почему, дядя?
— Пяткой больнее.
— Нет, дядь, я спрашиваю, почему я должен врезать пяткой?
— А почему, скажем, не должен? — с виду спокойно спросил Восстановитель, но все, кто находился от него поблизости, прекрасно почувствовали за этим напускным спокойствием сильнейшее нутряное напряжение, а Джанкарло, плававший чуть поодаль, пояснил:
— Он мой товарищ.
— Я тебе, оболтус, покажу такого товарища, что... Ишачий сын. — И уж тут-то РДЖР-ач сорвался: — Кто слыхал о товариществе в ватерполо! Я же вам долблю, что вы должны быть безжалостны! А моему драгоценному Джанкарло, я вижу, это не нравится, ему, так сказать, этот мой призыв не по душе, а, сладенький мой?! Ну, а коли так, то давай ты, мой верный и преданный Тахё, лягни пяткой этого болвана, да так, чтоб он сжался в клубок от боли. А если ты, Тахё, этого не сможешь, — в его хриплом голосе прозвучала серая угроза, — то я швырну тебя одного вон в ту комнату, связав по рукам и ногам и сплошь вымазав салом, и напущу на тебя много-премного, целую тьму, тех изголодавшихся шустрых красоток. Ты понял меня, дорогой мой мальчик Тахё? О, альма миа![49]
Джанкарло издал глухой отрывистый стон, раззявив рот, тяжело перевел дух и, судорожно скорчившись, ушел головой под воду, а когда он вытащил голову из воды и отдышался, стоявший на пальцах Бесаме Рексач спросил его с иезуитской ухмылкой:
— Ну как, товарищ он тебе или нет? Да или нет?
— Нет, — сказал Джанкарло, зловеще блеснув глазами.
— Он говорит нет, Тахё, ты слышишь, дурачок? Долбани его еще разок...
И снова, во второй раз, спросил почти теряющего сознание и горящего жаждой мщения Джанкарло, который от мучительной боли в кровь разодрал себе ногтями живот:
— Ты говорил, что он твой товарищ. Так как же, товарищ он тебе, мой птенчик?
— Нет!
— Полный ответ, и я тебя награжу.
— Он мне не товарищ, дядя Пташечка!
— Хорошо, молодец... а теперь, дорогой, твоя очередь — ты должен как следует угостить этого нашего неженку Тахё, своего бывшего товарища, — и, приложив ладонь к уху: — Чем половчее бить?
— Пяткой, синьор.
А в раздевалке, пока Тахё приходил в себя, дядя Пташечка, степенно вышагивая между восстанавливаемыми, которые стояли в одном белье, проповедывал:
— И чего только не бывает в этой жизни: взял я в жены уродину из богатого дома — не любя, и хорошо тянул у нее денежки, но для; этого, мои альма мии, ее надо было уметь распотешить. Усажу я эти образину к себе на колени, пощекочу-пощупаю — это тоже жизнь, это тоже во имя победы, — вопьюсь с закрытыми глазами в ее вялые, блеклые губы, а она, дуреха, прикроет глаза от страсти и давай мурлыкать, как кошечка, — глядь, денежки и перекочевали красивенько и аккуратненько в мой карман. Потом я прогнал ее к чертовой матери.
Вооот таак поучал восстанавливаемых Рихоберто Даниэль Жустинио Рексач, а на дворе шел снег... Ты когда-нибудь играла на гитаре в толстых шерстяных перчатках, Кармен? Ох, наверное, нет. Ты мне представляешься дщерью августа, какая-то вся коричневато-бронзовая от солнца, с полуобнаженной грудью, босоногая, словно давильщик винограда, моя дорогая злючка, льстивая, лицемерная Кармен. Было, было в тебе что-то, негодница, за что в тебя так без памяти влюблялись: было, говорю, ведь говорю же, — но только в глазах. Игривая, непоседливая, лукавая, как ты только могла, скажи мне на милость, плясать у костра в тот самый вечер, когда из-за тебя пырнули ножом в чисто вымытую шею того полковника, а? Выходит, пока он, то есть полковник, высоко взнесенный, чиновноорденоносный, валялся на земле, как какой-нибудь простой, рядовой солдат, ты, вероломная и бесшабашная, выплясывала себе как ни в чем не бывало, будто ничего особенного и не произошло. Да как выплясывала!.. Что-то было в этих твоих дьявольских глазах, нет, не что-то, а — подойдите-ка поближе, я шепну вам на ушко — св... поняли?.. сво... опять не поняли?.. своб... все еще не поняли?.. Свобода стояла в огромных глазах Кармен, товарищи! Та самая свобода, андалусцы и вей вообще, братья, которую называют распущенностью и своевольством, да что, впрочем, я говорю — своевольством, ведь всякая свобода всегда, позволите ли заметить, своевольство, так что и та свобода, что была в Кармен, тоже все-таки хороша... Ты не знала никаких границ, не признавала никакой узды, Кармен. Свобода стояла у тебя в глазах и никогда не сочилась оттуда капля за каплей; я говорю, что для тебя не существовало границ, так разве же стала бы ты по собственной воле играть в толстых шерстяных перчатках на той, пробитой пулей, гитаре? О нет, не стала бы! Довольно было тебе коснуться мизинцем одной струны, как ты невольно задела бы и другую, наморщила бы свой чистый, коварно выточенный, достойный пули лоб — ой, что же это вырвалось у меня, ведь я люблю тебя,