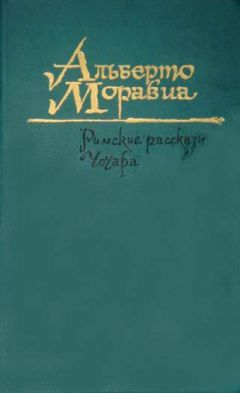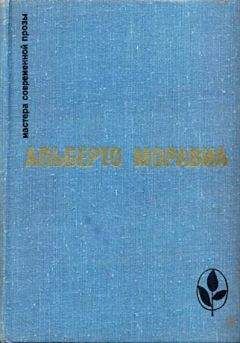— Молодец, — снова повторил он. — Так что же тебе приготовить? Спагетти?
— Конечно.
— Спагетти с маслом и с сыром… Они быстрее сварятся, и для желудка легко… Ну, а еще что? Как ты насчет бифштекса? Или зажарим пару ломтиков телятины? А может, хочешь хороший кусочек говядины? Или эскалопчик на сливочном масле?
Все это были простые блюда, я мог бы их приготовить на спиртовке сам. Из какой-то непонятной жестокости я спросил:
— А абаккио… аббакио у тебя есть?
— Очень сожалею… но мы его обычно готовим к ужину…
— Ну ладно, тогда бифштекс с яйцом а ля Бисмарк.
— А ля Бисмарк, конечно… С картофелем?
— С салатом.
— Хорошо, с салатом… И литр вина, сухого, да?
— Сухого.
Повторяя вполголоса: «Сухого, сухого», он пошел на кухню, оставив меня за столиком одного. У меня по-прежнему кружилась от слабости голова, я чувствовал, что поступаю гадко, подло, но, сам не знаю почему, это доставляло мне чуть ли не удовольствие. Голод ожесточает человека. Может быть, Ромул был еще голоднее меня, и мне, в конце концов, было приятно сознавать это.
Между тем все семейство о чем-то совещалось на кухне. Я слышал тихий, взволнованный голос Ромула, что-то торопливо говорившего жене. Та явно была недовольна. Наконец занавеска приподнялась, и из кухни выбежали дети. Они поспешно направились к выходу. Я понял, что в траттории у Ромула не было, должно быть, даже хлеба. В тот момент, когда приподнялась занавеска, я успел заметить, что жена Ромула, стоя перед плитой раздувала почти погасший огонь. Потом Ромул вышел из кухни и подсел ко мне за столик. Он пришел посидеть со мной, чтобы выиграть время и дать возможность ребятишкам сбегать за продуктами. Движимый все той же жестокостью, я сказал:
— Славное у тебя заведеньице… Ну, а как идут дела?
Он ответил, опустив голову:
— Хорошо, дела идут хорошо… Конечно, поскольку сейчас кризис… Да к тому же сегодня еще понедельник… Но обычно здесь у нас пройти негде.
— Ты неплохо устроился.
Прежде чем ответить, он взглянул на меня. Лицо у него было полное, круглое, как и полагается хозяину траттории, но при этом такое бледное, небритое, несчастное…
— Ты тоже неплохо устроился, — заметил он.
Я небрежно ответил:
— Да, пожаловаться не могу… Свои сто — сто пятьдесят тысяч лир в месяц я всегда зарабатываю… Правда, работа тяжелая.
— И все же не такая, как у нас.
— Ну да, вашему брагу хорошо: люди могут обойтись без чего угодно, только не без еды… Ручаюсь, что у тебя и про черный день кое-что отложено.
На этот раз он промолчал, ограничившись улыбкой, но в этой улыбке было столько отчаяния, что мне стало жаль его. Наконец, как бы желая сделать мне приятное, он сказал:
— Старина Рем… а помнишь, как мы жили с тобой в Гаэта?
Словом, он предпочитал заняться воспоминаниями, потому что ему было стыдно говорить неправду, а возможно, и потому, что солдатчина была лучшей порой его жизни. Мне стало так жалко его, что я решил доставить ему удовольствие и сказал, что все помню. Он сразу же оживился, принялся болтать и даже смеяться, то и дело хлопая меня по плечу.
Вскоре вернулся сынишка Ромула, держа обеими руками литровую бутылку вина. Он шел на цыпочках, как будто нес святые дары. Ромул налил мне и себе — сразу, как я ему предложил. Выпив, он стал еще разговорчивее — видно, и у него был пустой желудок. Пока мы беседовали и пили, прошло еще минут двадцать. Потом, как во сне, я увидел, что вернулась девочка. Бедняжка прижимала к груди худенькими ручонками большой пакет, в котором было всего понемногу: желтый пакетик с бифштексом, яйцо в кульке из газетной бумаги, батончик хлеба в коричневой папиросной бумаге, завернутые в вощеную бумагу масло и сыр, зеленый пучок салата и, как мне показалось, даже бутылочка оливкового масла. Серьезная, довольная, она деловито направилась прямо на кухню, а Ромул, когда она проходила мимо нас, подвинулся на стуле так, чтобы заслонить ее от меня. Потом он налил себе еще вина и снова вернулся к воспоминаниям. Тем временем на кухне мать за что-то выговаривала дочери, а та, оправдываясь, тихо отвечала:
— Он не хотел давать меньше.
Одним словом — нищета, полная, беспросветная нищета, чуть ли не хуже моей. Но я был голоден и, когда девочка принесла мне тарелку спагетти, я набросился на них, не чувствуя угрызений совести. Больше того, сознание, что я наедаюсь за счет таких же бедняков, как я сам, словно разжигало мой аппетит.
Ромул с завистью смотрел, как я ем. Я не мог не подумать, что он, должно быть, не часто позволяет себе такое блюдо, как спагетти. Я предложил ему:
— Хочешь попробовать?
Он отрицательно покачал головой, но я подцепил полную вилку спагетти и сунул ему в рот.
— Вкусно, ничего не скажешь, — проговорил он, как бы разговаривая сам с собой.
После спагетти девочка принесла мне бифштекс с яйцом и салат. Ромулу, видно, стало стыдно смотреть мне в рот, и он ушел на кухню. Я сидел один и ел. Скоро я почувствовал, что почти опьянел от еды. До чего же приятно есть, когда голоден! Я клал в рот кусок хлеба, запивал его глотком вина, жевал, проглатывал. Давно уже я не ел так вкусно.
Потом девочка принесла мне фрукты, и я попросил подать мне еще кусочек сыра, чтобы съесть его с грушей. Покончив с обедом, я развалился на стуле и принялся ковырять зубочисткой в зубах. Все семейство высыпало из кухни и обступило стол, уставившись на меня, как на какое-то высшее существо. Ромул повеселел — должно быть, оттого, что немного выпил — и начал вспоминать какое-то любовное приключение времен военной службы. А жена его стояла грустная, лицо у нее было измазано сажей. Я взглянул на детей: они были бледные, истощенные, с огромными глазами. И так мне вдруг стало их жаль, что я почувствовал угрызения совести — особенно когда жена Ромула сказала:
— Нам бы хоть четыре-пять таких клиентов, как вы, к обеду и к ужину, тогда мы могли бы вздохнуть свободно.
— Как? — спросил я, притворяясь непонимающим. — Разве у вас нет посетителей?
— Заходят, — ответила она, — чаще всего вечером. Да все одна голытьба. Принесут с собой кулек с едой, закажут немного вина, — четвертинку или пол-литра… А утром я даже плиту не растапливаю, все равно никого не бывает.
Эти слова почему-то разозлили Ромула. Он сказал:
— Ладно, довольно плакаться… Ты мне приносишь несчастье…
Жена тут же возразила:
— Это ты нам приносишь несчастье. Ты во всем виноват. Я с утра до ночи спину гну, минуты покоя не знаю, а ты что делаешь? Только и знаешь одно вспоминать военную службу. Кто же из нас после этого виноват, я или ты?
Пока они переругивались, я, разомлев от блаженства, размышлял о том, как быть со счетом. Тут, на мое счастье, Ромул вышел из себя и залепил жене пощечину. Та, не теряя времени, бросилась на кухню и выбежала с длинным острым ножом, из тех, которыми нарезают ветчину. С криком: «Убью тебя» она кинулась на мужа.
Ромул, опрокидывая столы и стулья, в ужасе бросился от нее. Между тем девочка заливалась слезами, а мальчик тоже сбегал на кухню и теперь размахивал скалкой, собираясь вступиться не то за отца, не то за мать.
Сообразив, что момент самый подходящий — сейчас или никогда! — я поднялся со стула и крикнул:
— Тише, черт побери, тише, вам говорят!
И так, не переставая повторять: «тише, тише», я очутился за дверью, в переулке. Затем я ускорил шаг и свернул за угол. На площади Пантеона я зашагал своей обычной походкой по направлению к Корсо.
В ту зиму мои дела шли как нельзя лучше. Сначала я провел выгодную операцию с железным ломом, потом мне повезло с продажей кирпича, и наконец я хорошо заработал на американских медикаментах. Я заказал себе два новых костюма — один синий в полоску, другой из серой фланели; купил пальто «фантазия», две пары туфель — черные и желтые, дюжину шелковых рубашек с монограммами и набор самых разнообразных носков.
Матери я подарил отрез черного шелка на платье и купленный по случаю китайский фарфоровый сервиз на шесть персон, замечательно расписанный цветами и драконами. Своему брату я дарить ничего не стал, он был безработный и, завидуя моим успехам, заявил, что ему от меня ничего не надо. В подарок сестре я купил маленький зонтик со стальной ручкой, который, складываясь, становился величиной с веер. Но самую большую радость доставило мне приобретение спортивной машины красного цвета, именно такой, о какой я мечтал с самого детства. Словом, у меня теперь было все, я не ограничивал себя в средствах, курил американские сигареты и каждый день ходил в кино. И несмотря на это я скучал, мне явно чего-то недоставало; и вскоре я понял, что мне просто не хватает подружки.
Ростом я, правда, не вышел, но безобразным меня никто бы не назвал: у меня белокурые волосы, глаза голубые, лицо белое и румяное. В детстве, как утверждает моя мать, я походил на младенца Христа. С тех пор я, конечно, успел измениться: рот у меня слегка искривился и ноздри оказались слишком глубоко вырезаны. Не знаю почему, но приятели прозвали меня колбасником. Да мало ли что они выдумают, я еще раз повторяю, что я вовсе не какой-нибудь урод.