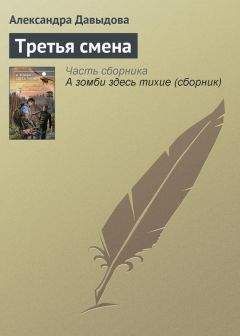— Ты не слушаешь.
— Что?
Шли рядом, солнце увеличивалось и краснело, присаживаясь на макушки сосен.
— Мне нужно очень много тебе рассказать. Только тебе. Смешно, конечно.
— Смешно, потому что мне?
— Ну, — он смешался, мысленно обругав себя.
С ней стало неуютно. Ни капли той безоглядной и радостной доверчивости не осталось. Будто рядом шла не семнадцатилетняя барышня в цветастом платьице, а умудренная жизнью и горем женщина, причем, красивая, и потому все ее горести именно от этого. Петр собрался было расстроиться, но что-то появилось в ней такое, что заставляло, напрягаясь, ощущать покалывание под кожей. Может быть, она весь этот год безоглядно валялась с мальчишками? Или мужчинами, что старательно портили ее, выращивая на месте чистоты сладкую плесень? Но нет, тут что-то не столь простое. Да и шлюх по призванию он узнавал сразу. И никогда не любил, брезговал.
Она взяла его руку. На ходу улыбнулась, просто так, как та самая прежняя Инга.
— Не волнуйся. Я понимаю. И хочу, чтоб рассказал, если тебе важно.
Он не знал, это Вива в ней, ее постоянное неустанное благородство, которое не позволяло обиду на одного переносить на весь мужской род. Но кивнул с облегчением, поняв — приехал не зря.
Ближе к ночи они сидели у самого края черной огромной скалы, за маленьким столиком. Ели мороженое, пили легкое белое вино. Тут было совсем немного народу, черная вода плескалась о галечный язык пляжа.
Инга, сходив домой и переодевшись в любимое синее платье, слушала.
— Все изменилось. И все — не так. Понимаешь? И началось с тебя, летняя девочка. Картина, она оказалась первой. За ней пришли другие. И они все очень настойчивы. Их нельзя не писать! Но чем дальше я работаю, тем сильнее мое одиночество. У меня почти не осталось друзей.
Он усмехнулся, допивая и наливая себе снова.
— Сначала я пытался усидеть на двух стульях. Даже тебе по телефону бодренько так, ах я совмещаю, живопись и шабашку. Врал. Вернее, не знал, как будет. Понимаешь, или я пишу. Или нет. Оказалось, не дано середины. И вот пишу я траву, усыпанную белыми и розовыми лепестками, беленый ствол сливы на краю холста. И — свет. Через невидимую крону — этот свет! Солнечный, но белый с розовым нежнейшим. Ты представляешь? Да что я, это ведь ты мне рассказала, об этом свете, в апреле. Ну вот. И приходит Наталья, говорит, Лильке надо в бассейн. Абонемент. Мне — техосмотр машины. А ты тут — с травой своей. Я растерялся. Оно ведь настоящее, понимаешь! И должно быть только такое! Но оно, такое, — не продается. Натали говорит, я понимаю. Но ты же можешь, написать заказ, а потом, когда будет свободное время…
Он махнул вино, в два глотка, скривясь, передразнил:
— Свобо-одное вре-емя… Да где его взять теперь? И я получаюсь паршивый муж и никудышный отец. Вместо них я — тоже мне худо-ожник. И покатилось. Если такой талантливый, то почему такой бедный? Ну, есть такая хитрая поговорочка про ум. Зато я понимаю теперь, почему Лебедев волком на меня смотрел, почему не верил. Каждый день, Инга, каждый день вокруг бесы и бесики, большие и малые. И все они заняты только одним — оттащить меня, оторвать, заставить бросить. Я, конечно, фигурально выражаюсь, ты не думай.
— Я понимаю.
— Правда? Черт, я не зря рвался сюда. Как хорошо. Ты понимаешь. Сейчас ты одна понимаешь! Я ведь надеялся, ну, поперву, — слава, восторги, да. Тьфу. Но после пришла другая надежда. Что я не один. Ну, хер с ним, думаю, с Генашей. И другими. Но вместо них, стервецов, явятся мне соратники, такие же, как я, чокнутые на вечности. А нету. Лебедев мне процитировал, ты говорит, царь, живи один. Знаешь это что?
— Нет.
— Пушкин сказал. О поэте. Чем больше царь, тем огромнее одиночество! И даже если появятся соратники… Они не соратники, Инга. Вернее, это вовсе другая рать. В ней каждый — один. Не потому что своя рубаха ближе к телу, а потому что уникален. Понимаешь?
Говорил горячо, почти всхлипывая, а Инга с жалостью смотрела на безвольный подбородок, не понимая особенно причин для своей жалости, но что-то смутно предвидя для этого изменившегося человека. Женское знание, та самая высмеянная женская логика, напрямую связанная с интуицией, когда крошечная деталь, неверно выбранный цвет рубашки или вот форма подбородка после заставят сказать — я сразу поняла, что будет.
— Ты останешься? Инга, девочка, прости, я сразу, быка за рога. Но три дня всего. И я вдруг понял, как мне это важно. Ты сегодня останешься, со мной? Я там, я снял тот же номер, где мы с тобой. Инга!
Он почти кричал, и она кивнула расстроенному и взволнованному лицу.
— Да, Петр. Хочешь, пойдем сейчас.
Он засуетился, поспешно кивая. Вскочил, подзывая официанта и раскрывая бумажник. Что-то быстро говорил, перескакивая и обрывая сам себя, и вдруг засмеялся, потирая рукой выбритый подбородок.
— Я ехал когда, сбрил бороду. Думал, ты увидишь ведь, вспомнишь, я тогда обещал.
— Я поняла. Петр, возьми нам вина, хорошо?
— Да. Конечно, да. Беру. Белого да? Как это.
«Правильно» успокоилась внутренняя Инга, с ним пусть все другое. Даже вино. Иди, дорогая. И не забывай улыбаться.
Позже, ночью, Инга встала, извинительно отцепляя его руки, ушла в ванную комнату, включила свет над узким зеркалом. Спокойно рассматривая плечи, шею и грудь, такую полную и тяжелую, совсем женскую, сказала шепотом той, за стеклом:
— А вот это уже секс. И никакой любви.
Пописав, совершила необходимые женские мелочи, уходя, покусала горящие, нацелованные губы. И вернулась в постель, садясь напротив Петра, что лежал, закинув руки за голову.
— Какая ты стала…
Под его взглядом, полным тревожного удивления, смешанного с восхищением, она засмеялась.
— Мне все это говорят. Видно и правда, изменилась.
— Та Инга, что спала в тебе, она проснулась. И теперь выпрямляется. Ты становишься грозной. И прекрасной. Поразительно! Я напишу тебя. Сто раз. Нет, тыся…
— Замолчи, Петр. Пожалуйста.
Она медленно легла на него, чтоб не дать закончить фразу, а внутренняя билась, сжимая кулаки, и через слезы повторяла и повторяла — я еще ж нарисую тебя, Михайлова. Сто раз, нет тыщу. Надоем еще…
Но это была ее работа, быть там, внутри. И она честно справлялась, пока Инга показывала самой себе, что такое секс, если в нем ни капли любви, но нет и злости, нет горя, ничего нет, кроме жарких тел и полной власти женщины над мужчиной, даже если ему кажется — повелевает.
— Мне надо, — шептал он, не имея сил оторваться, — там, в кармане, я…
— Не надо, — она поднималась над ним и мягко неумолимо ложилась снова, и делала что-то, о чем не знала сама, до этой ночи — совсем другой.
— Да? Тогда утром, таблетку. Купить.
Он запрокидывался, закрывал глаза и снова открывал их, жадно глядя на темное лицо и свешенные пряди волос. Некогда было думать, о резинках в кармане, о таблетке. Он боялся пропустить. И наконец, снова откидываясь, она подняла к потолку лицо, как волчица, что собирается завыть. И он снова услышал это. Обнял ее, прижимая к себе, чтоб это было только его. Притискивая и дергаясь, ждал и другого, того, что возникло между ними в тот самый первый раз, вышвырнуло его из нормальной жизни и пустило скитаться, своими ногами, без чужих спин, которыми упрекал его Лебедев. Но оно не пришло. Проплыло тенью и растаяло, потому что он ослабел, и она упала на него сверху, тяжело дыша. Не успели, мирно подумал, купаясь в наслаждении, н-ничего, еще два дня, целых два…
Потом он курил, сминая плечами высоко поднятую подушку. Инга лежала рядом, поставив на живот стакан с холодным вином. От дыхания стакан поднимался и опускался, и в прозрачной жидкости плыли легкие тени.
— А все-таки ты не дождалась меня по-настоящему, девочка. Нет-нет, я не упрекаю, какое право у меня упрекать. Но я мужчина, надеялся, как дурак, что буду первый.
Она молча пожала плечами. Каменев, обидевшись, хотел что-то сказать язвительное, поддеть. Но вместо упрека вдруг сказал:
— Ты приезжай. Я найду тебе квартиру, конечно, не роскошную. Не потяну. Но ты же собиралась учиться, вот и как раз. Что думаешь?
Инга поставила стакан на столик и встала с постели.
— Я сейчас.
— Да. Да, конечно.
В ванной она открыла воду, посильнее, чтоб громко. Склонилась над унитазом и ее вытошнило, выворачивая наизнанку до зеленой желчи. Держа руку на ноющем животе, выпрямилась, рассматривая в зеркале больные, лихорадочно блестящие глаза.
«Я что, напилась?» Но и без ответа внутренней Инги знала, дело не в выпитом вине. Вместо собственного голоса услышала в голове чужой, ленивый и нагло уверенный — «поперву стошнит, как от водки, а после привыкнешь». Ромалэ говорил так. Об умении врать.
И теперь уже Инга шепотом сказала внутренней, вышвырнув из головы чужой голос:
— Или ты немедленно прекратишь. Я прекращу. Или, и правда, только вниз, со скалы, головой нахер об камни.