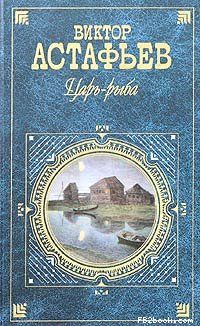— Есть еще вариант, как толмачат братья-геологи: перевалить через бережное нагорье и двигать по лесотундре. Верст через пятьдесят озеро Хантайское, на ем стоит бригада, игарского рыбзавода, туда самолет ходит, радист есть. Пущай нет бригады, постели, одежда, сети, соль, харчишки какие-никакие поди-ко остались в бараке? — и повел носом, продернул тугими от простуды ноздрями воздух. — Сымай уху, чую, поспела. «Цэ дило трэба разжуваты», — как говорит рыбак Грохотало. Пе-есельник — куда Кобзону! — И «пана» тряхнул головой, отгоняя какие-то расслабляющие, голубые воспоминания.
Насквозь уже все знающая про жизнь Акима в Боганиде и на «Бедовом» в особенности, Эля подхватила зазвучавшую в душе человека струну:
— Нет человеку блага, как есть и пить, чтоб было ему хорошо от его труда, гласит восточная мудрость, и потому двигайся, Акима, к столу.
— Хоросая мудрость-то, покушать и в самом деле не месат.
— И выпить — гласит мудрость! — принялась искушать охотника Эля, проворно доставая из-под изголовья фляжку со спиртом, хранимую пуще всякого имущества и продукта. — Выпей, развейся!
— Нельзя! — округлил глаза Аким.
— Не все на мою особу тратить, не больно и заслужила! — услышав, как сглотнул он слюну, настаивала Эля. — Промерз, ушомкался, говоришь, а выпьешь, настроение боевое, голова лучше соображает…
— Сто правда, то правда.
— Чего там! Всей мировой наукой доказано, — доламывала слабое сопротивление охотника Эля, — я вот и себе плесну на эту самую каменку…
— Тогда давай! — прошептал Аким. Выпив спирт, он заел его ложкой ухи, вслушался во что-то в себе и прочувствованно молвил: — Давно хочу спросить: Эля — это как будет?
— Эльвира.
— Е-ка-лэ-мэ-нэ! Че эти интеллигенты токо не придумают! — возмущенно стукнул кулаком по колену охотник, с большим сочувствием глядя на Элю: — Но серамно ты хоросый селовек, и я тебя нигде не брошу. Если пристигнет погибель, дак вместе! Правда?
— Правда, Акима, правда. — зажигая разом две свечи, откликнулась Эля, больше всего радуясь тому, что Аким снова сделался тем славным, привычным «паной», которого она знала, наверное, уже вдоль и поперек, во всем на него полагалась, всему, что он говорил, верила. Легко, просто было с ним, и слово «погибель» у него совсем не страшно выходило, как это: Аким — и вдруг погибель? Чепуха какая-то, бессмысленность. Она дотронулась до плеча охотника подбородком, дохнула ему в ухо теплом. — Акима, ты не будешь больше букой? Не станешь меня пугать?
— Постараюся.
— Вот и умница! Вот и умница! — обрадовалась Эля и чмокнула его в щеку. — Ешь, давай ешь! Шляешься целый день по лесу голодный, холодный, таскают тебя лешаки, непутевого! — бранилась понарошке Эля, работая под ворчливую бабу-хозяйку. — Сложишь башку удалую, я одна останусь горе мыкать.
— Получается! — Аким длинным, пристальным взглядом посмотрел на нее, угадав, что скрывается за этой взвинченной игровитостью, успокоил: — Все будет хорошо, Эля!
Она привалилась к нему, заплакала:
— Навязалась вот на тебя, дурища! Спутала по рукам и ногам.
Он гладил ее по волосам, по худенькой, ведомой ему до каждой косточки спине, такой родной, беспомощной, в сыпи пятнышек от иглы.
— В жизни всяко быват… Вон она какая… И не таким, как ты, салазки загибала…
Эля от «солидных» речей Акима совсем расстроилась, залилась пуще прежнего в сладостном изнеможении, приникая плотней к своему спасителю и защитнику, щекотила мокрым носом его шею, благодарно целовала за ухом, и он явственно ощущал, как смывают, уносят из него большие эти слезы грязь, мусор, всякую, незаметно скопившуюся, наслоенную в душе пакость. И воскресала душа, высветлялась, обновленно и легко несла в себе себя — да хрен с нею, с охотой этой, с авансом и со всем на свете! Главное сбылось: шел он, шел к белым горам и пришел, остановился перед сбывшимся чудом, которое так долго предчувствовал, может, и ждал. Не такое оно ему брезжилось, но раз уж пришло, прикатило, иного нечего и желать, устеречь, сохранить, на руках вынести — чудо, оно такое, оказывается, хрупкое…
— А-а, пировать дак пировать! — вскричала Эля и болтнула флягой. — Тут еще навалом! Выпей, Аким! Выпей! Мы спасемся! Нам рано умирать! Мы долго жить будем! Я тебя никогда-никогда не забуду! — охваченная душевным порывом, она крепко-крепко обняла его за шею сзади, больно сдавила костлявыми руками горло.
Акиму было трудно дышать. Лопатками он чувствовал ее небольшие, обвядшие груди, дыхание прерывистое и жаркое возле уха, закатывающиеся вовнутрь всхлипы. В нем начала заниматься мелкая дрожь, и он осторожно разжал ее руки, поднялся от стола.
— Курить охота, — сглатывая слова, сказал Аким и, закурив, быстро и жадно истянул цигарку. — И спать пора. Попировали — хватит! Вставать рано, — и, словно оправдываясь, начал перечислять работу, какую следовало сделать до отправления в путь: дошить обутки — шептуны, выкроенные из старой шкуры, для Эли; собрать из одеяла хоть что-то похожее на куртку, подстежив ее старыми ватными брюками, забытыми кем-то в избушке; довязать шарф, шапку из заячьего пуха; дошить запасные рукавицы, носки из распущенной вязаной фуфайки Гоги. Эля связала по паре толстых теплых носков, нужна еще пара — запас. Мама держала дома машинку и, когда еще не была захвачена до конца литературой, шила на ней кое-что для себя и дочки, приучала к швейному ремеслу Элю, не подозревая, как ей это сгодится. Отправляясь на Север, к папе, Эля больше всего заботилась, чтобы не забыть теннисную ракетку и лак для ногтей, Горцев обременял себя только своим, личным багажом, вот и снаряжалась теперь заново. Аким нарадоваться не мог Элиной сноровке — этакая фифа, а иголка не валится из рук! Упорна деваха, упорна, опрятна в домашнем обиходе, из нее вполне можно человека сделать, если взяться вплотную, но виду, однако, не показывал, как доволен ею, боялся вернуть ту, бойкую на слово, но пахорукую в делах горожанку, которую он презирал, на которую злился и которую нужда или он заломали-таки, может, и перевоспитали даже.
— Эх, дурило,песню испортил! — качая головой, вроде как понарошке, вздохнула Эля и взялась прибирать на столе. Потом подмела в избушке и, гнездясь на нарах, с усмешкой поинтересовалась: не вспомнил ли он еще какое неотложное дело?
— Вспомнил, — невозмутимо подтвердил Аким. — Послусать надо.
— Слусать так слусать, — передразнила его Эля, став на колени, покорно задрала рубаху, ждала «фершала», покрываясь куриной кожей, хотя в избушке было жарко. Готовясь к осмотру или, как со смехом говорил «фершал», к «сиянцу», он расшуровывал печку, но Элю, как всегда, пробирало ознобом.
— Худому поросенку и в Петровки мороз, — «пана», как и полагалось настоящему медику, маскировал серьезность лечебной работы шуткой. — Свет погасить?
— Вот еще! — Эля дернула остреньким уголком плеча, от которого начиналась и обручем закруглялась ключица, — Ты же доктор, — чуя в нем замешательство, с деланной храбростью добавила она, — а докторов не стесняются…
— Доктор! — прикладываясь хрящеватым, ломким ухом к спине, нащупывая им выемку под лопаткой, буркнул Аким. — Коновал, а не доктор! — И вдруг срывающимся, петушиным криком выдал:
Ты, милашка, скинь рубашку,
Полезай на сеновал!
Я тебя не покалечу,
Я старинный коновал!
И поскорей забегал ухом по спине, тыкаясь в чутко подрагивающую кожу — хитрил «пана»! Всегда он так: ляпнет что, сорвется ли и поскорее за дела примется, я, мол, не я, и хата не моя.
— Твои шутки иной раз…
— Тихо! Слусаю…
— Твои хамские шутки, — настаивала она, — оскорбительны для женщины, и тебе они совсем не к лицу.
— Чё поделаш! — отнимая ухо от спины больной, отчужденно и грустно обронил Аким. — Культуре обучался я в Боганиде и на «Бедовом». Как зысь воспитала, так и воспитала, извиняйте. Под правой лопаткой сипит, под левой вроде бы не слыхать. Будем ходить или в избушке сидеть?
— Ходить. А зысь ни при чем! Природа дала тебе ума и такта довольно. Не форси и не выпендривайся! — Эля сердито сдернула с шеи рубаху, полезла под одеяло.
Аким, сконфуженно пошмыгивая носом, отсчитал капли, поколдовал над банкой с травяными снадобьями и, понимая, что зубатиться им сегодня не следует, — такой добрый вечер, поддразнил ее, подавая колпачок от термоса с каплями.
— Значит, в столице всего навалом?
— Всего! — Эля опрокинула колпачок с лекарством лихо, будто водку на именинах, и осипшим от горечи лечебного зелья голосом добавила, вспоминая о чем-то своем: — И калачи там горячи…
— Хоросо! Замечательно! Дальсе што?
— Изверг ты, вот што!
— Спасибо. Прими еще вот этот порошочек…
Она послушно высыпала в рот какой-то желтый, тиной воняющий порошок, запила его кружкой совсем уж диковинного настоя — в нем багульник, корень шиповника, кора редкой здесь худорослой калины, стерженьки черемушника — все-все как есть, с точки зрения «фершала», пользительное, лишь седьмичника, заветной травки, нет, кончился седьмичник. Скоро сухари, крупа, мука кончатся, да и кончились бы уже, если б Аким не нажимал на мясо, рыбу и орехи. Он морил себя, держался побочным харчем, а что послаще, отдавал ей, пас каждую крошечку, каждый стебелек, ягодку. Уткнувшись взглядом в ноги, Эля перемучила, передышала занимающийся от горечи лекарств кашель и долго еще сидела, спустив ноги с нар и глядя на расположившегося внизу Акима, ровно что-то в нем открывая заново. Он смешался от ее взгляда, забормотал опять насчет завтрашних дел, насчет сборов и скорых морозов.