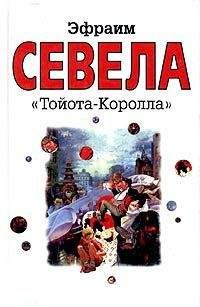— Почему ты меня не спросил? — разлепил он губы.
— О чем?
— Что я думаю о своей биографии.
— Что ты о ней думаешь? — с замирающим сердцем спросил я.
— То, что ты и предположил, — он приподнял тяжелые веки и устремил на меня прикрытые мутной пленкой зрачки. — Что это нелепая и страшная ошибка. Свой первый инфаркт я схлопотал, как только почуял эту жуткую догадку. Вскоре после смерти Сталина. А второй инфаркт пришел, когда я пытался расставить в своей душе все по своим местам и обнаружил, что ставить-то негде. Души нет. Продана дьяволу.
Помолчав, сипло дыша, он добавил:
— Сними груз с совести. Попробуй спасти эту женщину.
В ту ночь я написал письмо в прокуратуру, полностью отказавшись от своих показаний на очной ставке, объяснив мое прежнее поведение давлением и шантажом следователей. Я дошел до того, что портфель с нелегальной литературой, найденной в моей квартире при обыске, объявил принадлежащим мне и никакого отношения к Лене не имеющим и выразил готовность нести за это ответственность перед судом.
Последствием этого письма было незамедлительное исключение меня из партии и, соответственно, автоматическое увольнение с работы.
В здание суда меня не впустили, отобрав в дверях старую повестку. Отказались от моих услуг как свидетеля и не посадили на скамью подсудимых как соучастника. Просто отшвырнули в сторону, как бесполезный, не представляющий никакого интереса предмет. Это больше всего уязвило мое самолюбие.
Диссидентов осудили, дав разные сроки каторги в концентрационных лагерях. Лена получила пять лет. Об этом я узнал из газет, из советской прессы, злопыхательски и хулигански улюлюкавшей вслед мужественной группе, не убоявшейся репрессий. И моя бывшая газета не отстала от других, выливая грязные помои на головы этих ребят. Мое имя нигде не упоминалось.
Меня брезгливо обошли. Я был вычеркнут из списка живых. Перестал существовать. Осталась лишь моя тень. От которой спешили отвернуться прежние знакомые. Я остался один.
И тогда я вспомнил о Соне. Она ведь собиралась покинуть эту страну навсегда. Для нее, еврейки, открылась такая возможность благодаря Израилю. Но куда могу податься я, русский? Для меня границы намертво заперты, как для Лены ворота концлагеря в мордовской тайге.
Я позвонил Соне, и мы встретились. Она внимательно выслушала меня, ни в чем не упрекнув, и деловито предложила помощь: быстренько зарегистрировать фиктивный брак и в качестве ее мужа легально покинуть СССР. При этом она с теплотой вспомнила Лену. До ареста она дважды была в гостях у Сони и приносила деньги. У меня горела кожа от стыда.
В утешение мне Соня сказала, что я ни в чем не виноват. Я такая же жертва этого строя, бесчеловечного и неумолимого, как и она. Только она попала под колеса чуть раньше, а я с некоторой задержкой. Предварительно, как верный раб, отдав этой чудовищной машине все свои силы.
Говоря это, она невольно покосилась на своего сына, словно он мог подслушать ее крамольные речи, хотя даже я помнил, что мальчик — глухонемой.
Дальше все взяла в свои руки энергичная Соня. Я подчинялся ей во всем. Переселился к ней в тесную комнату в скособоченном деревянном доме в Марьиной роще, зарегистрировал в загсе брак, после оформления которого чтоб придать делу элемент правдоподобия, мы втроем — она, я и глухонемой мальчик Коля — допоздна ужинали в ресторане и даже крепко выпили, имитируя свадебную пирушку. Соня, подпив, по дороге домой плакала, и мальчик ее утешал, нечленораздельно мыча и кидая на меня далеко не дружелюбные взгляды.
Наступил день, когда с визами в руках и с двумя чемоданами в багажнике такси мы, в невероятном возбуждении, мчались из Марьиной рощи в международный аэропорт Шереметьево.
Мимо нас проносились московские улицы. Гудели автомобили, разбрызгивая грязь. На тротуарах толкались под зонтиками прохожие. Люди выглядели серыми, невзрачными и от этого близкими и родными, как бедные, не вылезающие из нищеты родственники, которых мы покидаем навсегда, расстаемся до могилы, а им и невдомек. Бредут, как ни в чем не бывало, никто и не взглянет нам вслед. Словно мы уже мертвы. Или они неживые.
Город, где мы родились, где за долгие годы исходили все улицы и переулки вдоль и поперек, оставался к нам глух и нем, как Сонин сын Коля. Москва отторгала нас, выплевывала в неизвестность, на чужбину и продолжала равнодушно чавкать по лужам.
Потом, в аэропорту, Россия Родина показала нам на прощанье жуткую гримасу, которой навсегда до последнего моего вздоха, перечеркнула некогда вызывавшее сантимент лицо моего отечества. Конечно, не сама Россия, а коммунизм, болезненной сыпью покрывший ее исстрадавшееся измученное тело, ощерил на нас мертвящий оскал. И это было венцом цепи унижений и издевательств, которыми нас, покидающих страну, навсегда осыпали на всем пути с момента подачи заявления о выезде и до самой двери самолета австрийской авиакомпании, увозившего нас в Вену — первый этап эмиграции. Мою душу обварило кипятком и с этого мига мне стало легко. Я понял, что никогда меня не охватит болезнь эмигрантов — тоска по родине.
Когда-то, века назад, в царской армии было такое наказание — шпицрутенами. Провинившегося прогоняли между двумя шеренгами солдат, державших в руках розги, и каждый солдат стегал его, и обычно до конца строя он не доходил, а сваливался под градом ударов. Но это было в почти доисторические времена. И мы же не были преступниками. Мы лишь желали подобру-поздорову убраться из объятий мачехи-родины. А нас, как и беднягу солдата при царе, народная власть, свергнувшая царя, прогоняла сквозь тот же строй шпицрутенов. Тогда наказывали лишь мужчин. А теперь и женщин, и детей, и бабушек. И колотили, и пинали, и плевали в лицо в каждом учреждении, что стояли бесчисленной чередой на многострадальном пути к московскому аэропорту.
А там Родина плюнула нам в лицо последний раз.
Перед тем как выпустить к самолету, нас долго обыскивали, проверяя, как у воришек, содержимое карманов и перетряхнув все вещи в наших чемоданах. А потом произошло самое чудовищное. Соню попросили снять протез.
— Зачем? — не поняла она.
— А затем, чтоб прощупать, не зашиты ли там драгоценности, не подлежащие вывозу, — с гнусной ухмылкой ответил молодой, но уже жиреющий от малоподвижного образа жизни таможенник с каким-то невыразительным, как стертый пятак, гладким лицом. Он был удивительно похож на других своих коллег, со злорадным любопытством теснившихся за ним. Они все были на одно лицо. Словно отштампованные на одном прессе. И это безликое сходство усиливали серые служебные мундиры на них.
Соня, не проронив ни слова, опустилась, заскрипев протезом, на стул и, не стыдясь, приподняла край юбки и стала отстегивать кожаные ремни на бедре. Согнутый в колене протез со множеством металлических застежек был затянут в бежевый чулок, такой же, как и на ее собственной, левой ноге. Руки плохо слушались Соню. Сын, угрюмо взиравший на нее из-за моего плеча, вдруг опустился на колени и протянул руки к протезу, чтоб помочь ей.
— Пошел прочь! — отстранила его Соня.
Таможенники не отводили глаз. Здоровенные, без единого увечья мужланы нагло уставились на редкое зрелище — женщину-инвалида, снимавшую с обрубка лилового, в шрамах бедра протез.
Наконец Соня справилась. Она резко отодвинула от себя согнутый в колене кожаный, с металлическими частями протез в неровно опавшем чулке, и он не свалился, а остался стоять, опираясь на подошву плоского ботинка.
— Возьмите на память, — тихо сказала она. — Это единственная драгоценность, которую увозила с Родины. Дарю ее вам.
Она отвязала от чемодана костыли и, опершись на них, поднялась со стула и сделала скачок на единственной ноге.
— Пошли, — кивнула она, не оборачиваясь, мне и сыну.
И мы, подхватив чемоданы, зашагали за ней, прыгавшей между двумя костылями на скользком пластиковом полу, на котором позади нас сиротливо стоял, согнувшись в колене, коричневый протез в бежевом чулке.
Даже бесчувственные таможенники оторопели, и мы беспрепятственно прошествовали к летному полю, где в лицо ударил сиплый вой прогреваемых реактивных двигателей. И мне показалось, что это вою я сам.
В Венском аэропорту мы с Соней расстались вскоре после приземления. Вокруг пассажиров самолета Москва — Вена сразу образовался кордон из австрийских полицейских, одетых в форму, очень напоминавшую ту, в которой конвоировали евреев к месту расстрела во время войны. И автоматы у полицейских были такие же, как у тех конвоиров, и язык, на котором они отрывисто переговаривались, был тот же. А люди, чью жизнь они теперь охраняли, были с такими же печальными и растерянными еврейскими физиономиями, какие были у тех, у погибших в числе шести миллионов.
Русским был я один в этой толпе. Да еще две женщины, замужем за евреями. Эти семьи, как и я, избрали себе конечной целью Америку. А не Израиль. И еще несколько семей, абсолютно еврейских упрямо твердили, что они едут в Америку.