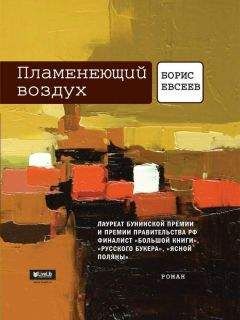А Фомин — не забыл, нет! Да и как забудешь — когда опять дымит Филька табаком в кресле, опять про Кременчуг, Екатеринослав, про созданную там покойным князем Потемкиным музыкальную Академию рассуждает. Зовет в ту Академию Фомина, помощь по службе обещает.
Филькиной настырности уступая, Евстигней Ипатыч стал подумывать: не изменить ли оперу «Американцы», не вогнать ли туда поганца Фильку на место буффона Фолета? И тем самым от «издевочного слуги» отвязаться, отправить его — хотя б в опере — в Америку!
Однако, измаявшись, бросил. А вскоре понял: сей издевочный слуга вовсе не игра воображения, как иногда полагал он. Сей слуга — новое испытание.
Тут, на время отвязавшись от издевочного слуги, слабеющий духом капельмейстер вдруг вдохновился новым прожектом: мечтой о русско-американской компании.
Вспомнились давние разговоры. Вспомнились мечты об американской вольности, о желании плыть чрез океан, чтобы к этой самой вольности приобщиться. Вспомнилась подробно, такт за тактом, и собственная опера, обсуждавшаяся и напевавшаяся вместе с пухлощеким, с легкою кривинкой в лице, юношей Крыловым. Тогда, десять лет назад, опера так до сцены и не доплыла. Перевернулась, как шнява в бурю. Теперь в либреттке оперы Фомину виделись прорехи, перекосы. Ленивый Крылов в те поры особо не задумывался, в тонкости драматургические лезть не желал.
«Вот опера до сцены и не доплыла! Так надо бы ее, вместе с новым издевочным слугой, вместе с музыкальными поправками сейчас и представить!»
Помучившись и уяснив, что обманывает сам себя, что улучшить уж ничего нельзя — да и кто теперь, через десять лет после написания, оперу решится представить? — думать об «Американцах» он перестал.
А вот про русско-американскую компанию думал и думал. Отъезд в Америку — втайне от самого себя — намечал и намечал. Правда, очнувшись от наваждения, — плевался, клялся. Клялся в любви к граду Петрову, к московскому Кускову, к любезной Алымушке. Плевался на Фильку, забравшего в последние дни неслыханную дерзость: садиться за клавикорды, изображая одним пальцем капли питерского дождя, а кулаком — веселие жизни новороссийской...
Тут мысли об отплытии в Америку (пусть даже в сопровождении порочного и докучливого «издевочного слуги») вдруг снова пресек «Орфей».
Было ли сие пресечение следствием грома побед, доносившихся из альпийских ущелий, или чем-то еще — Евстигней Ипатыч понять не мог. Но вот поди ж ты: отводя в сторону все дурносмешистое — вновь притянула к себе волшебная сила «Орфея».
Здесь-то смысл собственной мелодрамы Фомину по-настоящему и открылся!
Глава сорок девятая Не мелодрама: русская трагедия!
Смысл тот вмещался в одну строку:
Не нужен ты отечеству, певец...
Про певца приходило на ум все чаще и чаще. Вспоминались и другие стихи:
Нет, боги лютые, не в ваших это силах,
Принудя жить, заставити страдать...
Меж стихами и жизнью был перекинут мост. Мост следовало пересечь!
То ли в сторону божественную, то ли в противоположную сторону. Однако Евстигней Ипатыч чувствовал: застрял он посередь моста! Оттого и повторяет, как гостинодворский (в три рубли ценой) попугай, то один стих, то другой.
Повод к попугайничанью, без сомненья, был: «Орфея» собирались представить вновь!
31 января 1799 года представление и состоялось. Прошло — с немалыми рукоплесканьями.
Правда, еще до представления случились мысли и произошли события.
Главная мысль была неутешительной: как певец Орфей перекрикивался в мелодраме с оркестром, так его собственная жизнь перекрикивается с неудачами и злосчастием. И чего в том перекрикиванье больше — театра или жизни — понять было нельзя.
А тут еще одна и неотвязная мысль: об изменении сюжету!
Как раньше в голову не вступало? Все вакханты и все фурии кидались не на кого-то — на несчастного Орфея! Отчего же вакханты кидались? Да оттого, что не захотел Орфей участвовать в их разнузданном — с войнами, прелюбами и жертвенным дымком — пиршестве! Не нужны были ему ни едкий смех, ни бесконечный грех! И дымок жертвенный — тоже не нужен! А нужен был бесконечно прекрасный звук, и нужна была одна-единственная любовь. Их-то в собственном отечестве он и был лишен!
Страх придавил скалою.
«Кто ж тогда здесь Орфей?» — спрашивал себя Фомин в который уж раз. «Ты сам Орфей и есть», — был ответ. «А кто мог дозволить тому олуху, тому Орфею, иметь одну-единственную и чистую любовь, кто мог дозволить такое нравственное несогласие с распущенностью городов и столицы?»
Никто и никогда! Таков был окончательный ответ.
Чтобы унять вопросы — Фомин снова стал кратко записывать о музыкальном театре. Думал-то в последние месяцы о нем непрестанно. Думал: искусность любого дела не придумана кем-то, а соскакивает на клавиши и выбегает на сцену, помытарившись как следует в потоке страданий, бед.
К мыслям таким толкал и Дмитревский, все не умевший довести до ума собственную «Историю русского театра».
— Ты мне просто обязан набросок мыслей про театр музыкальный представить! — гремел Иван Афанасьевич. — А уж я — будь благонадежен — остальное докончу!
К мыслям о театре толкал и Плавильщиков, бесподобно Орфея исполнивший на сцене и продолжавший «орфействовать» (словцо вырвалось у Фомина само собою) в жизни.
— Снова ты, брат Петя, орфействуешь, — говаривал он. — Когда на сцене, так я, брат, одобряю. А когда в жизни... — Тут Евстигней Ипатыч горько усмехался, делал особый музыкальный жест — вскидывал на плечо левой рукой скрыпицу и левым же ухом на нее ложился. — Ты орфействуешь, а я... Вещий Голос я слышу. Оба мы с тобой на тиятре свихнулись...
— Ну уж нет. Ты это брось, Евстигней Ипатыч, — обижался Плавильщиков. — Одно дело Орфея на сцене изображать, даже и в жизни орфействовать, иное — Вещий Голос слышать. Тут и до гошпиталя недалеко.
— Гошпиталь дело не наше, господское...
Ты ведь и сам теперь не из господ ли? Вот и жалованье тебе положили приличное, и квартирные сверх него. Заведи себе, как положено, экономку молоденькую али кухарку пригожую — и господствуй над жизнью всласть!
— Не то мне Вещий Голос внушает, Петя, не то...
— Да ведь этот твой Голос — театральная ужимка! И ничего более. Ты на нее, Евстигней Ипатыч, как балтийский угорь на уду, и попался! Мы ведь, актеришки, чего только на тиятре не изображаем: и святые говорят у нас за сценой, и дьявол хохочет, и буря на все голоса разливается, и громы гремят! Жизнь — тиятр, и люди в нем актеры. Вот так ты Вещий Голос, как актера, рот раззявившего, и разумей...
— Не то говоришь, брат Петя. Сколько уж на сцене обретаешься, а того не понял: многое, что в жизни происходит, — театрального прикрытия требует. Именно чтобы публику до смерти не пугать, жизнь наша театральну и музыкальну оболочку на себя натягивает. Тебе скажи: завтра Страшный суд или — отправка в Орфеев Ад! Так ты, пожалуй, и на пол грянешься.
— А вот не грянусь, не грянусь...
Порешили ехать в Демутов трактир, там все прояснить окончательно.
По пути, опять же, спорили.
— Прав Руссольт, прав Жан-Жак французский! Театр — вредит нравам! Ведь главные театральные герои — кто? Натурально, злодеи. А в комической опере — мошенные воры. Отсюда, из театральной уборной, мой «издевочный слуга» (ты у меня дома его видел) и вылез, — болезненно вскрикивал Фомин.
Налетел зимний шквал, нахлобучился, как драный малахай, на карету. Пал игольчатый, с брызгами, туман. А тут еще лошадь запуталась в постромках; упала, сломала ногу. Карета — набок; рядом блестит Лебяжья канавка: резко, зло...
Плавильщиков все смеялся, Фомин больно ударился плечом и совсем расстроился: «Только что насмерть не зашибся».
Увеселения сами собой отменились.
А Вещий Голос не отменился, нет! Не забылись и мысли о комедиянстве и драмах жизни.
Лишенному дражайшей Эвридики
Противен весь Орфею свет.
Эти княжнинские стихи повторял уже не Вещий Голос: они сами, как-то скоро и нагло, запрыгнули в самую середку капельмейстеровой жизни.
Кто как не Господь Бог лишил его Эвридики? Однако мог ли Господь Бог лишить его самого дорогого?
Нет, это Плутон, Плутос! Старогреческий кумир высунулся из-под земли, заграбастал и увел за собою сперва питерскую, а затем и московскую Эвридику!
Следовало закрыть глаза и перестать видеть Божий свет. Или искать новую Эвридику...
Новую Эвридику звали Лизочком.
Смолянкой она не была. Вообще на учениц походила не слишком. Во младенчестве лишившаяся отца-матери, была родственниками отдана на воспитание одной вздорной старухе. Чем не сюжет для новой оперы под названием «Сиротка»?
Однак сиротка была крутенька. Многому — чему не надобно — научилась, многое — запретное — знала. Евстигней Ипатыч от самого с ней знакомства не переставал жмурить глаза от испуга. «А ну как окрутит по-настоящему? Пропала жизнь сочинительская, навсегда пропала!»