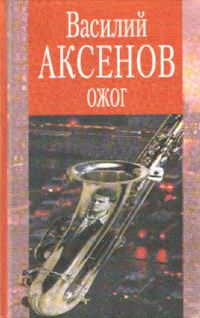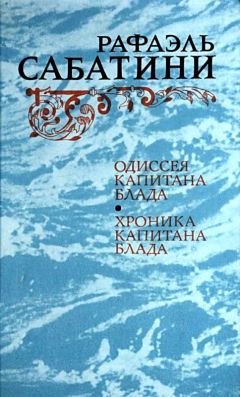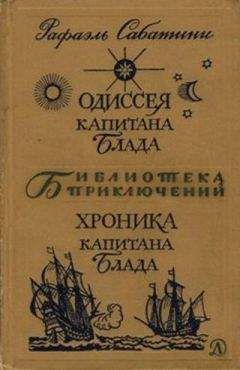– Связанного человека, – жестоко уточнил – Аристарх. – Локтем в глаз. Ты дочь палача.
– Нет! – закричала она. – Нет! Нет!
Аристарх положил голову на руль и закрыл глаза.
Морозные ели, наползающие друг на дружку. Крылья елок. Несколько звездочек. Безжизненный праздник морозного окна, и лишь наверху возле форточки желтый живой кружочек, масляный след луны.
– Здравствуй, Толя. А где мама?
Мартин вошел с мороза, весело потер руки, снял пальто, еще раз потер руки, хлопнул Толю по плечу и сел на их уродский жесткий диванчик. Он, видимо, был еще весь в делах, весь в своих хлопотах, рецептах, жалобах, симптомах и потому не заметил, что Толя курит.
Толя курил папиросу «Казбек» и пил сладкий портвейн из большой темной бутылки. Папиросы и вино он нашел в кухонном ящичке через несколько часов после ареста мамы. Теперь сидел за столом и тупо курил первый в жизни табак и тупо пил первое в жизни вино. Никаких ощущений не испытывал, кроме сухости во рту. Безразлично, как сорокалетний мизантроп, втягивал и выпускал дым, глотал вино. Тупо глядел на Мартина.
Мартин сидел на диванчике, прямой и улыбающийся. Удивительно белые и ровные зубы, подумал Толя, мне бы такие. Совершенно американские зубы. Американцы отличаются великолепными зубами. У Ринго Кида точно такие же зубы.
– Так что же? Мама еще не пришла?
– Мамы нет, – спокойно сказал Толя. – Арестована. Мартин не вскрикнул и не вскочил, он только тут же
закрыл лицо руками и горько заплакал.
Толя смотрел на Мартина как бы издалека, как бы из зрительного зала на экран. Смотрел с туповатым удивлением – зрелище широкоплечего мужчины с крепчайшей лысой головой, рыдающего, как дитя, было удивительным.
– Бедная, бедная, – еле слышно повторял Мартин, и слезы прямо катились у него между пальцев и даже повисали на венозных сплетениях кистей.
И вдруг Толя как бы прозрел – все увидел остро и в истинном свете, понял разницу между своими слезами и мартиновскими. Толя тогда, несколько часов назад, плакал не сам, в нем плакал маленький мокрый зверек, тот маленький Толик, который хотел быть обыкновенным комсомольцем и учеником, он плакал от страха перед страшными переменами в своей жизни. Мартин плакал сам, плакал по маме.
Толя бросил свой табак и оттолкнул вино. Встал и подошел к Мартину.
– Не плачьте, Филипп Егорович, – сказал он странным хриплым баском. – Я уж все выплакал за двоих.
Мартин услышал и вспомнил про него. Пока он плакал, закрыв лицо, он, конечно, не помнил о Толе, он думал о маме. Может быть, он вспоминал какие-то минуты их любви, печальной и стыдной любви между женской и мужской зонами, – что может быть печальней и стыдней любви двух зеков? Может быть, вспоминал и минуты счастья – ведь какая же любовь бывает без счастья? Он опустил ладони и вытер лицо рукавом.
– Толька, милый, ничего не бойся, – сказал он своим обычным голосом. – Толька, прости меня, но я буду молиться. За маму и за тебя.
– Ваш алтарь они забрали, – сказал Толя.
Мартин встал на колени перед пустым углом, сложил ладони вместе, приблизил их к груди и опустил к ним лицо. Перед ним был пустой угол, но сбоку стояла шаткая этажерочка с маленькими бюстиками любимых маминых писателей – Пушкина, Блока, Маяковского, Гете. Бюстики эти вырезал из кости один карантинский умелец-«придурок». Он сделал это по заказу Мартина, в награду за то, что доктор помогал ему «придуриваться» в санчасти, где, конечно, было теплее, чем в урановых рудниках. Бюстики эти всегда чуть-чуть дрожали, потому что всегда чуть-чуть дрожал барак, а вместе с ним и шаткая этажерочка.
– Филипп Егорович, научите меня молиться, – попросил Толя и встал рядом с отчимом на колени.
– Молится тот, кто верует, – тихо сказал Мартин.
– А тот, кто хочет уверовать?
– Кто хочет, тот уже верует.
– Так научите меня молиться, – прошептал Толя, сорвал с пиджака комсомольский значок и отшвырнул его прочь.
– Повторяй за мной, – глядя неподвижным взглядом в пустой угол, сказал Мартин. – Патер ностер…
– Патер ностер, – повторил Толя.
– Патер ностер, кви ест ин целли, сантифицера номен ТУУМ…
– Патер ностер, кви ест ин целли, сантифицера номен ТУУМ…
Потом они долго молча сидели за столом и не трогали ни вина, ни папирос. Когда отчим собрался уходить, Толя спросил его:
– Филипп Егорович, вы ведь не врач, да? Вы священник, правда?
– Нет, Толя, я врач, я окончил Харьковский университет, но в лагерях я помогал своим товарищам, католикам, осуществлять религиозные обряды. Мне приходилось отпевать усопших, венчать и даже крестить новорожденных, в лагерях все бывает. Можно сказать, что я почти священник. Я лагерный священник, Толя.
искали Алик Неяркий и Лев Андреевич Одудовский на задах универмага «Детский мир». Зачем он им? Зачем им третий? Неужели трудно вдвоем осилить банку? Однако такая уж выработалась теперь российская традиция: первую бутылку надо взять втроем, выбрать подъезд погрязнее, разложить на радиаторе закусон, задушевно малость попиздеть, обменяться, так сказать, жизненным опытом. Тоска, генетическая тоска по уютным жарким «есенинским» пивнухам, по извозчичьим трактирам живет в душе московского люда. Казалось бы, созданы сейчас в 70-е годы все условия для домашнего употребления спиртных напитков – и телевизор, и санузел, но жив московский дух, и тянет он некоторых беспокойных горожан на перекрестки, в подъезды, на мусорные баки, в «капеллы». Долго искать, конечно, не пришлось.
– Вот стоит подходящий товарищ.
У витрины «Детского мира», лицом в просвет площади Дзержинского, глядя на импозантное закругление здания КГБ (бывшего страхового общества «Саламандра»), стоял «подходящий товарищ» в сильно поношенном военном кителе, в линялой фуражечке и коричневых коротковатых брючатах. Объемистый зад товарища был с некоторым вызовом выпячен в сторону гостиницы «Берлин». Всей своей позой, небрежным навалом на барьер витрины седой «подходящий товарищ» как бы бросал вызов судьбе и неумолимому Хроносу. Красная папочка торчала из-под мышки «подходящего товарища», словно обрубок некогда могучего крыла.
– Безусловно интересный человек.
Два друга подошли к Чепцову. Алик без обиняков показал из-за пазухи горло «Попрыгунчика».
– Ай'м сорри, сэр, не желаете участвовать?
– Не пью, – последовал хмурый ответ. Черные глазки из-под серых косматых бровей прямо-таки обожгли.
«Знакомое рыло», – прищурился Неяркий.
– Ха-ха-ха, позвольте не поверить, – весело сказал Одудовский и с комическим ужасом помахал перед своим носом ладошкой, как бы отгоняя дыхание «подходящего товарища». Лев Андреевич был в прекрасном предвечернем расположении духа. Уже пропущено в Столешниковом переулке двести красненького, в кармане шевелится десяточка, к холостой жизни вполне приспособился – ей-ей, не только и ваших ляжках смысл жизни, сударыня!
«Подходящий товарищ» на юмор не ответил, но лишь исторг из глубины своей странный короткий рык-стон.
– Все ясно! – Алик железной рукой подхватил его под руку. – Гоу, гоу, конница-буденница!
Одудовский с другого боку ухватился за красненькую папочку, и новоиспеченная троица двинулась вниз по Пушечной, удаляясь от «Детского мира», а следовательно, и от Комитета государственной безопасности, от этих двух мощных учреждений столицы.
Все было преотлично организовано Львом Андреевичем: и подъезд, и стакан, и батарея отопления. Тусклый свет из закопченного фигурного окна падал на кафельный в мозаику пол, на котором сохранились еще древние буквы «Товарищество Кронгауз, Москва – Берлин – Санкт-Петербург».
– А я вас где-то знаю, товарищ, – сказал Неяркий Чепцову. – Как-то пересекались.
– Да вы мне давно запали в душу, ледовый рыцарь, – сказал Чепцов с профессиональным намеком.
– По голубому экрану?! – восхитился Одудовский. – Видишь, Алик, ничуть не упала твоя популярность!
– По ресторану «Националь», – сказал Чепцов. – Грубости, девки, порой рыготина… Все три смены прекрасно вас знают, мастер спорта.
– Кирьяныч! – Алик обнял Чепцова. – Лева, да это же гардеробщик из валютного «Наца». Свой в доску, облупленный, хер моржовый!
Алика уже две недели как снова отчислили из сборной по причине вялой игры и потери скорости. В самом деле, Алику снова хоккей надоел, и снова его заинтересовала столица, но, к сожалению, не творческий труд ее заводов, а разного рода мужские развлечения. Он был неисправимым мужчиной, этот популярный спортсмен, гудел и не тужил: по весу и физической силе он не уступит теперь и Горди Хоу, а с защитными линиями в советском хоккее слабовато, еще в ножки поклонятся.