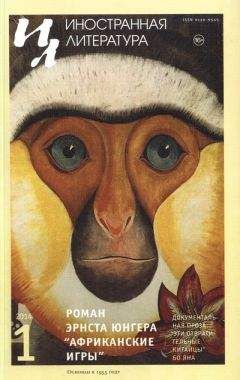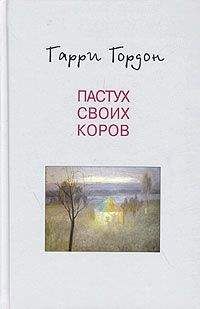В следующую секунду по краям повязки уже красовались синие оборки. Дохэ медленно натянула повязку на плечо, Сяохуань приколола ее булавкой. Увидев, что получилось, сотрудницы жилкомитета загалдели, требуя объяснить, что это еще за дела.
— Вы ведь теперь знаете, что она японка? А у них в Японии нарукавные повязки по краю всегда оборками украшают.
— Отпарывай!
— Вот еще.
— Чжу Сяохуань, это диверсия и саботаж!
— Который из документов ЦК и новейших указаний председателя Мао запрещает оборки на нарукавных повязках? Сначала отыщите, а потом говорите про диверсию и саботаж.
— Да на что это похоже?!
— Не нравится? Ничего, как-нибудь привыкнете!
На другой день кадровые работницы объявили, что с этой минуты Чжунэй Дохэ обязана убирать в кабинетах, на лестницах и в туалете жилкомитета, за день уборку нужно проводить трижды. Если в туалете найдут хоть одну муху, хоть одного опарыша, наказание Дохэ будет ужесточено.
— Ты уж убирай, раз велят. — Сяохуань подняла сощуренные глаза от швейной машинки. — Считай, что ты скотница, им каждый день приходится за свиньями дерьмо выгребать.
Куда бы ни пошла Дохэ, Черныш всюду следовал за ней, поэтому Сяохуань не боялась, что сестренку обидят, не беспокоилась, что у нее снова появятся мысли о самоубийстве: Черныш тут же доложит. Только одно не давало покоя: Дохэ выполняла свою работу честно, никогда не отлынивала и мыла туалет жилкомитета так же чисто, как у себя дома. Сяохуань даже бегала наверх, учила Дохэ правильно филонить: смотри сквозь узорчатую стену в туалете, как пойдет кто-нибудь из комитетских, тогда и берись за метлу.
Наставляла: водопроводная вода в жилкомитете все равно бесплатная, лей ее на пол побольше, тогда и мести не придется. А в конце дня Сяохуань напоминала Дохэ, чтобы та набрала в жилкомитете ведро воды из-под крана и отнесла домой — будет экономия. Скоро Сяохуань поставила у швейной машинки пару складных стульев и складной стол, на стол водрузила чайник с чаем из прокаленных семян, словно приманку для «социально вредных элементов», которых так презирали сотрудницы жилкомитета. Элементы толпились у лотка, смеясь и болтая. Дела у мастерской Сяохуань на глазах шли в гору.
— Как вам чаек? — спрашивала она у своих низкопробных приятелей.
— Вкусный! — дружно хвалили приятели.
— Японский!
— Правда? То-то и оно!
Тогда Сяохуань подзывала Дохэ и говорила, что сестренка и японские угощения умеет готовить. Вот только красная фасоль и клейкий рис дома закончились. На другой день вихрастые афэи принесли ей и фасоль, и рис. По заказу Сяохуань Дохэ приготовила колобки, а когда дома все наелись, Сяохуань унесла остатки в мастерскую и пригласила афэев на угощение. Тронутые теплым японским приемом, вихрастые стали носить Сяохуань все съедобное, что плохо лежало. Было им лет по семнадцать-восемнадцать, самый возраст, чтобы восхищаться тетушкой Сяохуань, такой приятной, умелой и до краев полной проказ. Заодно афэи и с Дохэ были ласковы: «Тетушка, разве можно вам таким грязным делом заниматься, туалеты мыть? Ведь вы наш зарубежный друг! Не трудитесь, мы сами все отмоем!» Вихрастые афэи — и парни, и девушки — трижды вдень мыли комитетский туалет, с самым непотребным видом мурлыкая революционные песни. Сотрудницы жилкомитета запретили им помогать Дохэ: враг должен искупить свою вину грязной работой, но афэи, попыхивая сигаретами, процедили: «И как вы нам помешаете?» Одна из сотрудниц пригрозила, что отправит Дохэ в отделение, на это афэи ответили:
— Отправляй и не беспокойся: всегда найдется умелец, чтобы колеса твоему велосипеду продырявить! А окна в квартире придется раз в два дня менять, а то и чаще! И думаешь, мы не знаем, в какой школе твой сын учится?
Тогда женщина крикнула, что сдаст в отделение всю их шайку, но какой-то рослый афэй ответил:
— Глядите, я когда ее снасилую, она еще встанет и спасибо скажет, мол, до скорой встречи!
От его гадких слов людей едва не стошнило, кто-то хохотал, кто-то, смеясь, бранился.
Тацуру, хоть поняла не все, тоже рассмеялась. Она с удивлением заметила, что смеется всем телом, изнутри наружу. Разве могла она представить несколько месяцев назад, сидя на камне у озера, что будет еще вот так хохотать, задрав голову вверх, хохотать, пустив все на самотек, — день прожили, и ладно.
Публичный суд и правда чуть было не отправил Тацуру в мир иной, на встречу с односельчанами из Сиронами. В тот день они шли с Чернышом по улице, и люди кругом ликовали от готовящегося убийства. Торжество напитало воздух, словно электрический ток, и тело Тацуру немело от его ударов. Из репродукторов кто-то неутомимо зачитывал имена приговоренных к высшей мере, и они застывали в холодном и влажном зимнем воздухе Цзяннаня, не в силах рассеяться.
Имя Чжан Цзяня тоже застыло, осев на темени Тацуру, на ее ушах.
Она подошла к входу в бомбоубежище и велела Чернышу ждать у двери. Черныш понял — стоило легонько надавить ему на круп, и он соображал, что нужно сесть. Если хозяйка велит сесть, значит, хочет, чтобы он ждал. Перед тем как зайти в магазинчик за табаком или солью, в лавку за рисом и вермишелью, Тацуру хлопала его по спине, и Черныш тут же усаживался у дверей. Бросив пса у входа в бомбоубежище, она пришла к тому озеру на склоне горы. Еще не стемнело, серые облака ровно расстилались до самого окоема, а сквозь них просвечивало невозможно белое солнце.
Она часто приходила сюда с Чернышом, сидела в тишине или беседовала с ним на языке, которому когда-то научила детей. Дети выросли и мало-помалу забросили это диковатое молочное наречие, теперь один Черныш его понимал. Тацуру говорила, говорила, и скоро ей начинало казаться, что она беседует с Ятоу, Дахаем и Эрхаем.
Этот черный пес соединил собой трех человек: ее, Эрхая и Сяо Пэна. Сяо Пэн купил тогда Черныша, чтобы порадовать младшего — до чего же он заботился о настроении Эрхая! Сяо Пэн знал, что, если развеселит мальчика, Тацуру лишний раз ему улыбнется. Он никогда бы не догадался, что теперь с Чернышом Тацуру беседует чаще всего. Она видела, что пес изводится от тревоги: чувствуя решимость хозяйки свести счеты с жизнью, он целыми днями не выпускал ее из виду. У человеческого отчаяния есть свой запах, точно есть, иначе разве смог бы Черныш его учуять, разве стал бы всюду неотступно следовать за Тацуру?
Она сидела на валуне, глядя в чистую, насквозь прозрачную воду. Какие острые камни — выбирай любой!
Каждый может сослужить утопленнице хорошую службу, избавить ее от предсмертных мучений.
Это озеро напоминало Тацуру деревню Сиронами, потому она и выбрала смерть в воде, отвергнув и петлю, и рельсы. В Сиронами было похожее озеро на месте котлована, вырытого для строительства железной дороги. Прыгнешь в это озеро, а окажешься в том.
Жаль, что в пору свиданий с Чжан Цзянем стройка бомбоубежища еще не началась и этого озера не было, ведь здесь так чисто, так тихо. Все-таки ей никогда не забыть те дни — приметив красивое место, она невольно думала о Чжан Цзяне. Думала, что однажды приведет его сюда. Тацуру даже снился питомник, в который возил ее Сяо Пэн, во сне она была там с Чжан Цзянем.
Сидела на камне, пока не продрогла до костей. Решила, что сейчас же положит своей жизни конец. Убить себя — дело несложное, в ту минуту народ и семья Тацуру придавали ей храбрости и сил.
Она встала и поняла, что не помнит, какое сегодня число. Подумала: разве можно умирать, когда даже дня своей смерти не знаешь? Как же Чжан Цзянь разыщет ее на том свете? Загробный мир наверняка больше людского, без даты смерти человека там ни за что не найти, все равно как здесь без даты рождения.
Стоя на камне, она наконец вспомнила голос, гремевший из репродукторов: сегодня воскресенье. Хорошо, Тацуру умрет в одно из воскресений начала 1970 года. Значит, с тех пор как она перестала разговаривать с Чжан Цзянем, прошло уже больше двух лет? Больше двух лет. Все потому, что она шла в гору с тяжелой сумкой, а он ее не заметил, и еще потому, что дома он стоял на балконе рядом с Сяохуань. Теперь она уйдет, так с ним и не помирившись? Можно ли помириться в загробном мире? Едва ли.