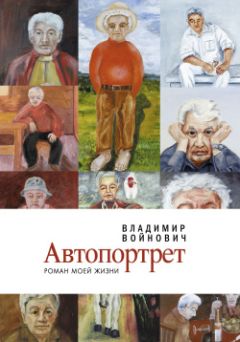Процесс был, как говорили, «открытый при закрытых дверях». Газеты соревновались друг с другом, утверждая, что суд гласный, открытый и справедливый. Больше других изощрялся корреспондент «Известий» Юрий Феофанов, написавший из зала суда несколько репортажей, один из которых назывался «Здесь царит закон». Автор был из тех журналистов, которые умели лгать особенно ловко, то есть так, что их материалы неопытному читателю могли показаться правдивыми, а аргументы резонными. В 90-е годы Феофанов «перестроился», точнее, подстроился под время, и стал публиковать статьи в самом деле толковые, потому что юридически был грамотен, да и писать умел.
Во время суда литературная общественность сильно волновалась, поэтому к писателям в ЦДЛ явился председатель Верховного суда Лев Смирнов, человек примечательной биографии. На Нюрнбергском процессе он был заместителем главного обвинителя от СССР Романа Руденко. В 1962-м вел процесс рабочих, участвовавших в расстрелянной войсками демонстрации в Новочеркасске. Сто с лишним человек отправил в лагеря, а несколько по его приговору были казнены и реабилитированы только тридцать лет спустя.
Встреча в ЦДЛ проходила при забитом до отказа зале. Председательствовал Сергей Михалков. Смирнов, желая расположить писателей к себе, демонстрировал свою образованность, знание английского языка (упоминая вскользь, что по утрам читает «Морнинг Стар») и не боялся произнести слово «феномен» с ударением на втором слоге. Синявского и Даниэля, по его словам, судили не за то, что они печатались за границей, а за то, что совершили преступления. А в чем состояли преступления, если не в печатании за границей, так объяснить и не смог.
Я послал Смирнову записку без подписи с вопросом, не может ли писательская организация взять Синявского и Даниэля на поруки. Записку прочел Михалков. Всплеснул руками:
— Какие поруки?
И прибавил:
— Спасибо КГБ, охраняющему нас от таких писателей.
Теперь автор гимнов всех времен и режимов в своих интервью постоянно подчеркивает, что совесть его не мучает по ночам. Естественно. То, чего нет, болеть не может…
После встречи с судьей все вышли из зала подавленные. Ко мне подошла Вика Швейцер, работавшая в аппарате Союза писателей:
— Там кто-то послал записку насчет того, чтобы взять ребят на поруки. Тебе не кажется, что это разумное предложение?
Я сказал, что кажется, но в своем авторстве не признался.
Через несколько дней стало ходить по рукам коллективное письмо с использованием моей идеи. У письма были критики, которые, оправдывая свое нежелание подписаться, говорили, что предлагать взять Синявского и Даниэля на поруки, значит признать их преступниками. Формально с этим можно было согласиться, но тактически я и сейчас, сорок с лишним лет спустя, считаю, что вопрос был поставлен правильно, и если бы вожди прислушались к голосу разума, то советская власть могла бы дожить (не дай Бог!) и до наших дней. Но они, отправив писателей в лагеря, вызвали бурю возмущения в стране и в мире, породили диссидентское движение и подрубили сук, на котором сидели.
А между тем жизнь пока продолжалась. Посадив одних литераторов, власти позволили некоторым другим то, что не было разрешено при Хрущеве. У меня вдруг пошла во многих театрах пьеса «Хочу быть честным». В Москве в театре МГУ ее поставил Марк Захаров (чуть ли не первая его постановка), а в театре Станиславского киевский режиссер Виталий Резникович. Этот спектакль был первой работой в столице недавно умершего выдающегося театрального художника Давида Боровского. Тогда же Лариса Шепитько попросила меня написать киносценарий по ее идее. Сценарий сначала назывался «Любовь», потом «Владычица». Хотя в нем описывалась русская жизнь приблизительно в тринадцатом веке, он был запрещен как антисоветский.
Репутация антисоветчика прилипла ко мне задолго до того, как я сам мог бы приложить к себе подобное звание. Эта репутация способствовала тому, что идеологическое начальство в моих самых безобидных вещах искало скрытую крамолу и на всякий случай их запрещало.
Написав повесть «Два товарища», я надеялся, что после нее от меня хоть на время отстанут. Я описал свою предармейскую юность и изобразил героя ни о чем особенно не задумывающимся шалопаем, каким сам был тогда. Затея моя удалась. Повесть после публикации в «Новом мире» была принята хорошо, написанную по ней пьесу расхватали десятки театров страны, включая Центральный театр Советской Армии и театр Маяковского. В ЦТСА спектакль поставил замечательный режиссер Михаил Буткевич. Там потрясающе играли Любовь Ивановна Добржанская и тогда еще совсем молодые Леша Инжеватов и Наташа Вилькина.
Спектакль получился очень хороший, шел с аншлагами, но недолго. Незадолго до премьеры я подписал коллективное письмо в защиту Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой, осужденных за протесты против суда над Синявским и Даниэлем. Летом 66-го был пленум ЦК КПСС, где подписантов решили примерно наказать. Моих «Двух товарищей» закрыли, так же как и «Хочу быть честным». Причину закрытия в разных театрах объясняли по-разному. В ЦТСА артистам сказали, что я был задержан на границе при попытке вывоза бриллиантов (я тогда никаких границ не пересекал и о бриллиантах имел очень приблизительное представление). В Новосибирске, прежде чем запретить спектакль, опубликовали разгромную статью тамошнего писателя Анатолия Иванова «На что тратите таланты?». Обращаясь к актерам театра «Красный факел», он удивлялся, как такие талантливые артисты участвуют в «антисоциалистическом представлении». За эту статью Иванова поощрили переводом в Москву на должность главного редактора журнала «Молодая гвардия», где он в годы перестройки защищал уже не социалистические, а нацистские идеалы. В театре Маяковского у Андрея Гончарова дело с «Двумя товарищами» не дошло даже до премьеры.
«Им нравится, они смеются»
Перед этим у меня был разговор с уже упомянутым начальником управления культуры Моссовета Родионовым, который не стал разводить демагогию, а просто сказал, что, если я не сниму свою подпись под письмом в защиту диссидентов, спектакля не будет. На всякий случай он пришел на прогон спектакля, за которым должна была следовать премьера. Артисты сыграли пьесу для двух зрителей: для Родионова и меня. Все-таки я долго был очень легкомысленным человеком. Я сидел рядом с Родионовым, не сомневаясь, что результатом просмотра будет запрет, но артисты играли так смешно, что я хохотал и время от времени ловил недоуменный взгляд своего соседа. После спектакля Родионов сказал:
— Очень хороший спектакль, но он выйдет только при условии, о котором я вам сказал.
Я условия не принял, и премьера не состоялась. Примерно через год власти сменили гнев на милость, и спектакли мои кое-где были восстановлены. Однако шли недолго.
Однажды в ЦТСА на очередной спектакль явились председатель президиума Верховного Совета Николай Подгорный и член Политбюро ЦК КПСС Кирилл Мазуров с женами, детьми и внуками. Во время спектакля не занятые в сценах актеры смотрели из-за кулис в правительственную ложу, передавая друг другу:
— Им нравится, они смеются, они хлопают.
После спектакля начальник театра (в армейском театре начальник, а не директор) и кто-то еще кинулись к высоким гостям:
— Ну, как вам понравилось?
Подгорный, имевший за страсть к игре в домино прозвище Пусто-пусто, суя руку в рукав услужливо поданного пальто, сказал:
— У театри Совецкой армии не люблять Совецкую армию.
Это был приговор, не подлежавший обжалованию.
Глава шестьдесят девятая. Тёркин и Чонкин
Осенью 1967 года, закончив первую часть «Чонкина», я дал прочесть написанное Асе Берзер, а потом Игорю Сацу. Тот хотел было показать рукопись Твардовскому, потом забоялся и собрался нести ее Кондратовичу. Я его остановил, понимая, что худшего адреса нет. Сказал, что сам отнесу Твардовскому. А.Т. встретил меня хмуро, но просьбе не удивился. Через несколько дней его секретарша Софья Ханановна позвонила и сказала, что А.Т. готов меня принять.
В «Новый мир» меня провожал Виктор Некрасов. Он перед тем выпил и был возбужден:
— Володька, не бойся, все будет хорошо! Конечно, твой Чонкин Теркину не родня, он даже анти-Теркин, и у Трифоныча может возникнуть ревнивое чувство. Но он мозги еще не пропил. Он художник, он широкий, ему «Чонкин» понравится!..
— Мой юный друх, — не глядя мне в глаза, начал Твардовский и дальше мог бы не продолжать. Вот когда я пожалел, что разрешил ему не называть себя по имени-отчеству. По имени он так ни разу меня и не назвал (он вообще никак не обращался ко мне), а тут — саркастическое «мой юный друх». А.Т. стоял, опершись на крышку стола, глаза отводил, но говорил раздельно и жестко: