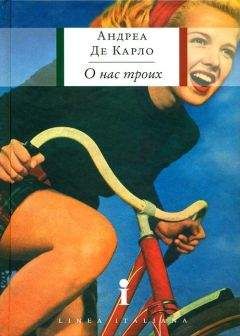— ЭТО ТЫ БУДЬ ЛЮБЕЗЕН, ОСТАВЬ ЕЕ В ПОКОЕ, ГРЯЗНАЯ СВИНЬЯ, МЕРЗКИЙ, САМОВЛЮБЛЕННЫЙ, НАГЛЫЙ ЛАТИФУНДИСТ!
Никогда еще мой мегафонный голос не звучал так оглушающе: Томас, его мать, братья с женами, отец Мизии, ее сестра и все прочие гости, сидевшие и стоявшие вокруг огромного стола, смотрели на меня, словно не понимая, кто я. Но даже это изумление было ненатуральным, и в нем еще отчетливей проявились те самые их манеры, интонации, привычки, из-за которых я страдал с самого начала, думая, что Мизия стала такой же, как они, пока в конце концов не почувствовал себя одиноким и несчастным, без малейшей опоры в этом мире.
И я закричал еще громче, хотя не думал, что это возможно, и, наверное, это было действительно невозможно:
— И ВЫ ВСЕ, БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ, ОСТАВЬТЕ ЕЕ В ПОКОЕ, ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЫСАСЫВАТЬ ИЗ НЕЕ ПОСЛЕДНИЕ СОКИ, ЛИШЬ БЫ ХОТЬ ЧЕМ-ТО НАПОЛНИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ, ПУСТУЮ И ИССОХШУЮ, КАК СБРОШЕННАЯ ЗМЕЕЙ КОЖА!
Я замолчал, сам почти оглушенный своим воплем и чувствуя, как меня опутывает липкая паутина взглядов, искал и не находил среди них ни одного хоть сколько-нибудь дружеского или хотя бы не откровенно враждебного, кроме, конечно, взгляда Мизии и маленького Ливио, который, сидя в конце стола, наблюдал исподлобья за всем происходящим — я хорошо знал этот его взгляд.
И тут наступила полночь, кончился старый год, хотя, казалось, все забыли об этом — кроме Пьеро Мистрани и управляющего, которые пропустили все самое интересное; как раз когда Томас прочищал горло, собираясь мне ответить, что-то резко зашипело и вспыхнуло, взрыв разорвал воздух, во все стороны брызнули искры, расчертив белыми полосами темноту ночи. За первым залпом тут же грянули другие, даже гаучо устроили свой фейерверк неподалеку; небо расцвело огненными шарами, гирляндами, фонтанами и каскадами, которые бросали блики на лица сидящих за столом и искажали своей фантасмагорической пляской их движения и взгляды.
Двенадцатого июля умерла моя бабушка. Я позвонил ей в восемь утра, она не ответила, меня кольнуло какое-то тревожное предчувствие, и я решил сходить к ней. Я звонил в дверь, стучал, звал ее по имени. На лестничную площадку вышел сосед-адвокат, он сильно поседел с нашей последней встречи.
— Может, лучше еще подождать, не вызывать сразу спасателей, они тут все разнесут, — сказал он. Но прошел час, мои крики и безостановочный стук остались без ответа, и стало ясно, что без службы спасения не обойтись; дверь выломали, мы наконец вошли: на этот раз бабушка действительно умерла. Она лежала в постели, и лицо ее выглядело умиротворенным; рядом на тумбочке мы увидели два пузырька от снотворного, чашку чая и адресованную мне записку, в которой корявым бабушкиным почерком было написано: «Старайся жить как можно интереснее, потому что оглянуться не успеешь, как твое путешествие закончится».
То, что я чувствовал, нельзя было назвать горем: мне, скорее, казалось, что какая-то часть меня самого исчезла безвозвратно. Я ехал на машине куда глаза глядят, и все вокруг казалось мне чужим и непонятным: движущиеся автомобили, люди на тротуарах, витрины, магазины, автобусные остановки, взревывающие мопеды, рекламные плакаты. Я пытался думать о чем-то мне близком: о выставке в конце сентября в Болонье, которую готовила моя новая галеристка, о трехнедельном отпуске с детьми, с трудом отвоеванном у бывшей жены, о сантехнике, которого надо было вызвать до августовского мертвого сезона, чтобы он проверил трубы в моей новой квартире-студии, о Монике, которой я обещал помочь с подготовкой к экзамену по футуризму, о поездке в Ирландию, куда мы с ней собирались в конце лета — ничто не помогало. Самое смешное, что всего несколько часов назад я считал, что в моей жизни наступил удачный и динамичный период, и вдруг снова сорвался в пропасть, и понятия не имею, как из нее выбраться.
Больше всего мне сейчас хотелось поговорить с Мизией, но после двух лет безостановочной работы в реставрационной мастерской во Флоренции она уехала отдыхать с детьми в Грецию, на остров Фурни, где обреталась без телефона и вообще без каких-либо средств связи, как в старые добрые времена. Мы договорились созвониться в середине августа, когда она вернется, и я понятия не имел, как связаться с ней сейчас. Мне ничего не оставалось, кроме как сидеть в унылой гостиной перед телевизором и смотреть на лживые, хитрые, тупые, безобразные, нелепые лица, сменявшие друг друга на стеклянной поверхности экрана; гул их голосов казался мне самым отвратительным звуком на свете.
Когда вернулась Моника, я рассказал ей о бабушке; она сделала сочувствующую мину и печально покачала головой:
— Одна из моих бабушек тоже умерла.
И тут же, удалившись на кухню, стала греметь чем-то в холодильнике. Я пошел за ней, с трудом понимая, куда иду, и не ощущая пола под ногами.
— Дело в том, что для меня это была не просто бабушка, — сказал я. Она посмотрела на меня, держа в руке кусок сырокопченой ветчины; у нее была очень упругая, как у зимнего яблока, кожа, волосы цвета красного дерева блестели в синеватом свете холодильника, свет отражался в ее темных глазах, и они казались двумя маленькими тюленями в Ледовитом океане.
— Я знаю, Ли, но люди стареют и умирают, и ничего с этим не поделать, — сказала она. Чуть пожала плечами и изобразила подобие понимающей улыбки.
Я должен был что-то ей на это ответить, но не мог — слишком много сил ушло на то, чтобы пройти по коридору и не врезаться в стену.
Я захотел поговорить с детьми и позвонил Паоле; ее голос звучал так, будто я был повинен во всех ее несчастьях, — этот тон я слышал с тех пор, как мы решили развестись. Я не мог понять причину ее нынешней злости; несколько лет назад, когда мы вернулись из путешествия по Аргентине, она методично перечислила, что ее во мне раздражает: как я говорю, жестикулирую, ворочаюсь ночью в постели, жадно заглатываю по утрам кукурузные хлопья, ору с детьми в саду, как потеет левая половина моего тела, стоит мне начать нервничать, моя работа, неумение зарабатывать, неприспособленность к жизни, отношение к ней, музыкальные вкусы, одержимость Мизией, мое несходство с теми мужчинам, с которыми она только что познакомилась. Я не мог понять, почему она не радуется, раз наконец-то от меня избавилась, а ведет себя так, будто купила подержанный автомобиль и вдруг обнаружила, что барахлит коробка передач и сгорело сцепление. Сомневаюсь, что я когда-либо преподносил себя как выгодное приобретение, особо отмечая малый расход бензина.
Когда я, наконец, сказал про смерть бабушки, она помолчала, а потом процедила: «Мне жаль»; они никогда особо не ладили, ее голос казался мне чужим, и я не понимал, зачем вообще ей позвонил. Она передала трубку детям, но они тоже были не слишком приветливы, отвечали неохотно, как два маленьких взрослых, обо всем уже составивших собственное мнение и с порога отвергающих всякое другое. Я недолго упорствовал; повесив трубку, пошел в ванную, умылся, намочил волосы, шею, руки, футболку, прилипшую к потному телу, опять плеснул воду в лицо, на полу вокруг раковины вскоре разлилось целое озеро.
Мы похоронили бабушку; в два часа ночи я лежал на кровати, рядом спала Моника, которой не мешали ни жара, ни осатаневшие комары, и думал о том, какая чепуха, будто человек развивается в течение жизни, ведь он только и делает, что накапливает ненужные сведения, избитые анекдоты, дутые восторги, запоздалые прозрения, маленькие факты, маленькие сделки, маленькие хитрости; он похож на телегу, нагруженную отбросами, которая кажется крепкой, но разваливается, как только на дороге попадается колдобина или камень. Я думал о Сеттимио Арки, неожиданно заявившемся на похороны: как он вышел из темной машины с мигалками, которую сопровождала еще одна — с карабинерами, о его солнечных очках, закрывающих пол-лица, новой стрижке, о том, как он сказал мне: «Я с тобой», — и оглянулся, проверяя, какое произвел впечатление на избирателей, всегда голосовавших за других. Я думал, что для такого, как он, наша страна оказалась самым подходящим местом и что я не знаю никого из моих сверстников, способного так самодовольно улыбаться в самую печальную минуту.
Я резко сел в кровати; Моника, не просыпаясь, перевернулась на другой бок. Рядом на тумбочке беззвучно звонил телефон; я на ощупь нашел трубку и услышал: «Ливио?»
— Марко-о! — сказал я, даже не сомневаясь, что это он, хотя мы не виделись и не разговаривали уже бог весть сколько лет.
— Я прочитал о твоей бабушке в итальянских газетах, — сказал Марко Траверси.
— Да, такие дела.
— Удивительная была женщина.
— Да.
— Думаю, она очень на тебя повлияла. Не будь ее, ты был бы другой.
— Да, — снова сказал я.
Мы помолчали несколько секунд.