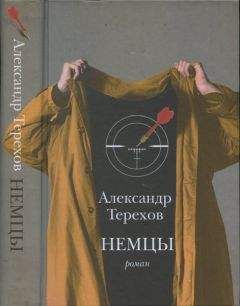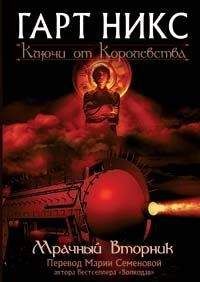— Это пожилая тетя, сто двадцать килограммов.
— Да? Она уже ушла, завтра надо будет подъехать.
— Мне бы позвонили. Я бы решил.
Движением головы, изгибом шеи зомби показал внутрикипящее «опаздываю страшно», глубокое уважение, выдавившее из рабочего графика вот эти самые бессмысленные минуты для поддержания человеческих отношений, имеет ограниченный ресурс; отношения мертвы, если не включают «дело» или не смогут когда-то включать: Эбергард в его глазах навсегда погас.
Не делал ничего и ни на что не оставалось сил — на любовь, на обеспечение, предоставление, ограждение и поддержание Улрике; нелепо: ждали дочь, вотвот, и ссорились каждый день — с первых слов имея в виду — расставание навечно; спасали только три «темы» — они вбегали в них обсохнуть и согреться, как только подступал крик: раз — как Эбергард страдает без Эрны; два — что каждый из них смертен; и три — скоро родится малыш; всё остальное мучительно воспламеняло, и Эбергард (уже ходивший этой дорогой, узнавая вон те березы, согнутые дугой) понимал, почему так: всё легко складывалось, годилось, пока они с Улрике шли навстречу, переступая и добиваясь, а встретившись, они пошли вместе, теперь в одну сторону, уже другими шагами и другой силой, только сейчас становясь теми, настоящими… Кем-то (в очередной раз) становился Эбергард, и Улрике становилась другой (ему казалось, безвольной и самодовольной: она, видите ли, отремонтировала квартиру — за чей счет?!!); и он (также из пройденного) знал, насколько далека эта ругань от настоящего расставания и как расставание она приближает; когда всё успокаивалось, ночью он понимал: терпеть, не верить ночи, у ночи много союзников, кладбище — первый; всё решать по утрам, женщины одинаковые, Улрике лучше многих, сам выбрал ее и позвал. Родится девочка, он развяжется, оглядится, устроится, выстроит в системе схему, и они с Улрике…
После злых слов, оказавшись у Улрике за спиной, Эбергард объявил:
— Придется поработать ночью. Не дома. Срочный заказ.
Улрике качнула головой: ей всё ясно, не обернулась, промолчала, но после хорошим, прежним голосом их начальных времен спросила:
— Сделать тебе бутерброды? Чай в термосе? Может, тебе лечь сейчас поспать?
Эбергард погладил ее плечи: спасибо, понимание. Улрике жалобно попросила:
— Можно, я попрошу маму приехать ночевать? Мне будет страшно одной. А если у меня… начнется?
— Брошу всё и приеду. Типография на генерала Ватутина, за «Перекрестком».
— Ты же не будешь отключать телефон?
Писчую бумагу (российскую, не лучшего качества, но плотностью больше всего напоминавшую бюллетень) — восемьдесят две пачки по пятьсот листов с нанесенным в офсетной типографии розоватым фоном, покрытым волнистыми узорами, обещали привезти к восьми утра, но как всегда — сперва «пусть подсохнет», потом «у нас некому грузить», потом «через полчаса отправим», потом «выехали», потом «сломалась машина», потом «у водителя разрядился телефон, он где-то на соседней улице», а потом «печатать еще и не начинали»; привезли к одиннадцати вечера.
Верстальщик, изнеможденный и рыжевато-патлатый, походил на дьячка из тех, кто на День города выгуливают по шесть детей, заправив полосатую рубаху под брючный ремень; он очень неуверенно, хотя и одержимо быстро, исполнял движения, положенные конторскому работнику: наливал чай, несся по мягкому полу, и со стороны казалось, что он управляется дистанционно подростком, еще не вполне освоившим плавный ход и обхождение углов, — затихал верстальщик, лишь присев за монитор.
— Все ушли? Уборщица ушла? — спросил Эбергард.
— Что? Да. Ушла. Все ушли. Вот только что. Догнать? — верстальщик вскочил, словно кто-то крикнул «Тревога!», долбанувшись коленом о столешницу.
— Я закрою дверь. А вы — вот что мы делаем, — Эбергард говорил отчетливо, но усыпляюще ласково. — Вот, — он показал образец — избирательный бюллетень, — верстаем такую же таблицу и подбираем шрифт — один в один. Распечатываем. И множим на ризографе. На той бумаге с фоном, что привезли. Краски хватит на сорок тысяч?
— Ну, хватит… Может, на цифре?
— На цифре я пробовал, слишком ярко, краска блестит. Я буду класть чистую бумагу, а вы — забирать готовое и по две тысячи складывать в вон те коробки и заклеивать скотчем. Вот это делаем. Больше ничего не делаем. Никому не открываем.
— Ну, ну это… Не один час, — верстальщик сунул пальцы в подбородочную поросль.
— Поэтому я и просил выспаться. Надо успеть до начала рабочего дня.
Молча, замечая друг друга, если только ризограф зажевывал лист, — Эбергард давно так не работал, руками; ему казалось (как в детстве выдумываешь азартную идею для скучного труда), что они с верстальщиком спешат кого-то спасти: моряков «Курска», замурованных взрывом горняков; он представлял себе довольное лицо Фрица и предчувствовал ощущение собственной ценности: смог! сделал! — его будут ждать, и в мгновение, когда принесет заказ, Эбергард станет главным и благодарность положит на депозит или в оборот тут же пустит; когда устал, заболела спина, он думал то же самое, но тише; позже стерлось всё, замедлилось, словно и ризограф устал, и бумага; пачки не кончались, считал и считал, еще много, и последней — уже не обрадовался, не почувствовал свободы; вышел на холод глянуть, не подъехал ли Павел Валентинович раньше назначенного, и посчитал, как любил, словно свое, строительные краны от левого края до правого — четырнадцать; на кран полз человек, останавливаясь ради отдыха и поглядывая вниз через каждых два пролета лесенки. Эбергард подумал: нельзя сделать лифт? Есть ли у крановщика туалет? Или сидит с банкой между ног, а потом опорожняет ее, устраивая дождик, или осторожно несет на землю под смешки товарищей? Искрила сварочная пурга — сварщик присел, как в мольбе, в железных костях будущего этажа; и вдруг Эбергард остро — не понял, а почувствовал: к строительным кранам он больше не имеет отношения, это уже не его, всего лишь стоит и загораживает, и ему стало неприятно смотреть, он сгорбился, замерз и сник, словно все невидимые хозяева заметили его, смотрели на него и — смеялись.
В четверг про мэра не объявили, теперь говорили: «в четверг порешали, объявят в понедельник»; Эбергард высиживал предусмотренное распорядком, зарабатывал «по собственному желанию», проверял обновления в «Фото» на сайте гимназии Эрны: нет, одни старшеклассники; заметил, что его неизлечимые фильмы серии «Встречи с Эрной» вдруг оставили его, как только его будущее обрезали, а мечтать «просто», без бюджета Эбергард не мог — стыдился; являлось только невнятное: стоят рядом — Эрна что-то говорит? — похоже, ничего, просто стоит, а потом крепко обхватывает его; он изредка звонил матери и первым сворачивал разговор, шутил и обсуждал только правильность питания и стоимость лекарств, не давал сказать, чтобы не узнать о жизни матери того, что всегда подозревал, пусть будет только то, что запланировал, если ничего не планировал — пусть вообще ничего. Эрна должна оставаться его продолжением, но странно: сам Эбергард не ощущал себя продолжением родителей, что-то в памяти остается, конечно, но непонятно как отобранное, и иногда он чувствовал какое-то скучливое отчуждение к тому, что запомнит о нем Эрна, — раз это само по себе, без его утверждения и выбора, то пусть идет, как идет, ладно… Не готовил резюме, «серьезные» резюме не рассылают, серьезным звонят, в худшем случае им самим приходится звонить, вот и он — составлял список «кому» и оттачивал веселое и свысока объяснение «почему»; животное не имеет особого выбора — как получится, и человек не имеет, все живут, как живется, подхватило и несет, хватаешь то, до чего рука дотянется; и тебя хватают, если дотягиваются. А есть работа, что всегда доступна, он несерьезно прикидывал список: предпоследняя — «Макдоналдс», последняя — откачка септиков, иногда менял местами; все человеческие лица казались ему уже виденными. Молодая бессмысленность. Либо старческая несправедливость. Позвонил зомби, «не думал, что когда-нибудь еще…» столкнулось с «вдруг у него есть для меня должность?»:
— Зарегистрировали контракт?
— Так точно. Позавчера. Хотел посоветоваться по процедуре. Контракт сейчас у, — он прочитал с какого-то носителя информации, — Пил юса Сергея Васильевича, начальника организационного управления.
— А почему?
— В общем отделе — я звонил — сказали: такой порядок выдачи документов: после регистрации Пилюс визирует и сдает в «одно окно». Звоню весь день — нет на месте. Удобно ему позвонить на мобильный? — то есть «дай мобильный Пилюса». Я при чем?
— Всё узнаю и перезвоню, — Пилюс, мразь, всё-таки решил отгрызть свои полтора процента? Кристианыч отключил телефон, к Хассо нельзя. Набрать Пилюса по местному? Лучше зайти. Постучался, у Пилюса сидел зализанный и серый куратор из мэрии и два плешивых господина, все (и Пилюс) листали какие-то папки. — Попозже, Сергей Васильевич?