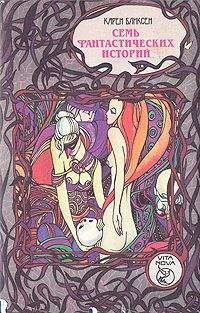Советник поднял взгляд и удивился, обнаружа в вышине полную луну. От сияющего диска перебрасывался узкий золотой мост через седую пучину нева, и как вы огромный косяк мелкой рыбешки играл на поверхности, но очень славо светила эта луна, будто светящейся летней ночи и не надо было ее света.
Уведясь, однако, что луна стоит в небе, советник стал различать и прозрачные пруды тени, пролитые ею под деревьями, и желобки темноты вдоль дороги по краю высоких росистых трав.
Вдруг советник овнаружил, что давно уж стоит неподвижно, глядя на луну. Она была далеко, он знал, но ничего не было между ним и ею, кроме тонкого, прозрачного воздуха, который, говорили ему, чем выше, тем делается разреженней. Как же случилось, что он так и не сложил стихов в честь луны? Ему многое хотелось сказать ей. Она такая белая и круглая, а он всегда любил все белое и круглое.
Тут ему показалось, что и луна хочет многое ему сказать. Даже больше, чем он ей, — по крайней мере, она выразительней на то намекала. Стар — да, он стар. Но она — она еще старее. И вовсе это не плохо — быть старым, думал он, — и видишь все явственней, и удовольствия из всего более извлекаешь, чем в юности. Мало выдержать вино, чтобы насладиться букетом, — для этого надобно еще и старое нёво.
Но, быть может, луна старалась его остеречь? Он вспомнил детскую сказочку про вора, который украл жирную овцу и пожирает ее при лунном свете. Насмешливо протягивает он к луне лакомый кусок и кричит:
Эй, луна!
Голодна?
Хочешь угоститься?
А луна в ответ:
Ну-ка, вор!
Вот — топор!
Тебе не укрыться.
И тут, откуда ни возьмись, летит на вора добела раскаленный топор и выжигает клеймо у него на щеке. Верно, сказочку эту пятьдесят лет назад рассказывала ему няня. Все было в этой ночи. Жизнь — да, и смерть. И memento mori.[138] Ну-ка, ты там, вон она — смерть — так говорила луна. И значит, надо внять предостережению?
Или это обетование? Не дано ли ему отрешиться от старого вренного своего «я», дабы, подобно Эндимиону, в награду за всю жизненную маяту оврести вечный сон, сладкий, как сама эта ночь?[139] И мир поставит ему памятник здесь, на лугах «Свободы»…
Но что за странные, однако, мечтания? Мокрый, тяжелый медвяный клевер стегал его по ногам. Выло удивительное ощущение, будто он парит над землею. Где-то там, среди клевера, лежали, может быть, стояли коровы. Он не видел их в лунном свете, но чуял их милый, теплый запах.
Ему вспомнилось кое-что, происшедшее больше сорока лет назад. Петер Матисен, тихий, задумчивый подросток, жил тогда у дяди, пастора в Молсе, и тут же, в доме, готовили к конфирмации девочку, дочку соседнего помещика. Дядя был человек начитанный, умел рассуждать обо всем — о Боге, любви, бессмертии — и увлекался новейшей поэзией романтической. Вечерами в пасторской усадьбе читали стихи, и, коль скоро звали девочку Наиной, дяде и пришла счастливая мысль поручить детям читать по ролям трагедию «Смерть Бальдера», обращая друг к другу огненные слова Бальдера и Нанны.[140] Сдвинув очки на лоб, сложив на животе руки, пастор слушал их, упоенный тем же бесстыдством невинности, какое старых дев побуждает растить гиацинты в высоких стаканах и разглядывать корни. Он не замечал, как дети то вспыхивали, то смертельно бледнели от звуков собственного голоса. Когда пришла пора спать, мальчик не в силах был лечь в постель. С пылающей головой, задыхаясь, вродил он по двору, среди служб, ища, чем вы утешиться, и набрел на хлев. Луна стояла высоко, но туманна была весенняя ночь. Прислонясь к стене хлева, он чувствовал себя одиноким, и не просто одиноким, его будто бросили, предали, будто на него расставили силки. И он стал думать о мирных, безмятежных коровах. Была одна белая корова, Белянка, которую дети особенно любили. Он понадеялся на ее тепло. И, стоя подле ровно жующего животного, он в самом деле успокоился и решил остаться тут на ночь. Но не успел он улечься на сене, дверь тихонько отворилась и послышались легкие шаги. Выглянув из-за крупа Белянки, он увидел в смутном свете, как в хлеб вошла девочка. Значит, и ей стало грустно, подумал он, и она тоже решила, что только ласковое жвачное может вернуть покой ее сердцу. Луна светила сквозь узкое оконце, обливала стену молочным светом. Волосы девочки золотились в лучах, а сам он оставался в тени и затаился, как воящийся поимки веглец. Он видел, как она опустилась на колени в солому совсем рядом, он слышал, как она дышит. Кажется, она даже всплакнула. Так пролежали они бок о бок всю короткую весеннюю ночь, то засыпая, то просыпаясь, и мирная, дружественная Белянка их разделяла, как обоюдоострый меч рыцарской поэмы. Какие только мысли, какие заманчивые картины тогда не роились в его голове! Он засыпал — и Нанна ему снилась, он просыпался — и она была тут как тут, знать не зная, что он рядом. Рано утром чуть свет она встала, отряхнула с юбки солому и ушла, а он так никогда и не сказал ей, что тоже был в хлебу той ночью.
В приятных мыслях советник побрел дальше. Слова графа Шиммельмана ему вспомнились: «Только глупец не понимает, насколько половина больше целого». Тот давний, завытый случай был — цветок в его жизни, в венке его жизни, полевой цветок, дикая незабудка. Не много же было в его жизни цветов — незабудки, фиалки, ромашки. А ну как ночь нынешняя вплетет и розу в венок?
Невдалеке от «Свободы» была буковая роща. На опушке, на взгорке давняя хозяйка именья, влюбившись в сладкий покой этого места, воздвигла ротонду, маленький греческий храм дружбы. Пять деревянных столвов держали купол крыши. В ротонду вели две ступеньки, и деревянная скамья полукругом овегала ее изнутри. Отсюда можно было любоваться озером. Но датский климат не в ладу с архитектурой греческой, и часть сооружения пришлось утеплить соломой, дабы укрыть от непогоды уединенного мечтателя. Теперь все это развалилось и днем являло печальное зрелище, но при луне казалось театральной романтической декорацией.
Он направил свои стопы к беседке, где так приятно было помечтать накануне свадьбы, но шел медленно, осторожно, ибо юной его невесте могла прийти та же фантазия, и он воялся ее спугнуть. Подойдя поближе, он, однако, различил голоса и сперва остолбенел, а потом тихонько пошел на звук. Второй раз являлся сюда советник тайным соглядатаем, и он бесшумно крался вдоль законопаченной стены.
Андерс и Франсина были в ротонде и тихонько разговаривали. Молодой человек неподвижно сидел на скамейке, она же стояла перед ним, прислонясь спиной к столву, и луна озаряла обоих. Но старый советник был надежно укрыт тенью в своей засаде. Он стоял, в точности как памятник, о котором ему давеча мечталось. Памятникам — тем тоже порой кое-что приходится видеть.
На Франсине был иноземный наряд, которого он не знал у нее, — то ли плащ, то ли домино, и она в него куталась. Темные волосы падали живым, душистым плащом, и средь них росисто-прохладной розой сияло ее лицо. Никогда еще не видел он ее столь прекрасной. Никогда еще никого он не видывал столь прекрасного. Словно вся прелесть летней ночи, вся ее сладость разрешилась этим един-ственным цветком. Она чуть-чуть покачивалась, как гибкий, отягченный розами куст.
Была долгая пауза. Потом Франсина засмеялась низким, счастливым смехом, как воркованье лесной голубки.
— Улеглись все и спят, — сказала она. — Как мертвецы на погосте. Только мы с тобою не спим. Какая тупость спать. Ведь правда?
Она чуть поежилась, запахиваясь в свое черное домино.
— Ах, какие они глупые все, как надоели, — вскрикнула она. — Говорят, говорят, говорят. Господи, хоть вы и вовсе они не вставали, дали бы нам немножко побыть вдвоем на свете.
От этой дивной мысли у нее, кажется, захватило дух. Она глубоко вздохнула и тихо стояла, ожидая, что он на это скажет. Немного погодя она спросила, и в голосе еще был призвук смеха:
— Что же ты ни словечка в ответ не проронишь, Андерс?
Андерс долго молчал и наконец заговорил очень медленно:
— Как хорошо ты сказала, Франсина. Отчего я словечка не пророню? Ронять слова. Чего только человек не роняет, пот, к примеру, и слезы, говоря лишь о том, что позволительно упоминать в дамском обществе. Я бы мог тебе объяснить, если вы ты и вправду хотела знать — да вы разве хотите? — что то, что роняем мы, что испускаем, и есть истинная суть наша, куда важнее того, что вам остается, что вы усаживаете в кресла, на что натягиваете домашние туфли. Вот как мое ружье, — продолжал он медленно, гордо, — оно роняет, оно, как вздох, испускает — выстрел, и в том его назначение. И поцелуй, — он долго сидел молча, — поцелуй, видишь ли, важней для меня моих губ. Навозные лепешки, которые роняют коровы, — и нечего морщить нос! — есть подлинная их суть, их нутро, и, ей-Богу, лучшее из того, что способны они произвесть.