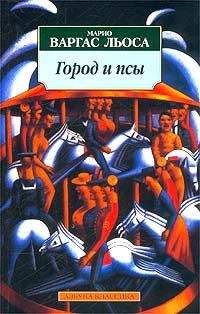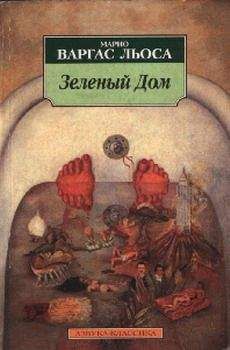Прямо из кабинета я поспешил на Центральный почтамт и отправил телеграмму: «Амнистирована. Билет пришлю скоро. Целую». Весь этот вечер, где бы я ни находился – у историка, на верхотуре «Панамерикана», на кладбище, я ломал голову над тем, где достать денег. Вечером я составил список тех, у кого собирался просить в долг, и помечал сумму. Но на следующий день старикам принесли телеграмму: "Прибываю завтра рейсом ЛАН[71]. Целую". Как я потом узнал, тетушка Хулия купила билет на деньги, вырученные от продажи колец, серег, брошек, браслета и почти всего гардероба. Так что, когда я встретил ее в аэропорту Лиматамбо вечером в четверг, она была почти нищей.
Я отвез ее прямо на квартиру, вымытую до блеска кузиной Нанси и к тому же украшенную алой розой, означавшей: «Добро пожаловать».
Тетушка Хулия разглядывала квартиру так, будто это была новая игрушка. Она очень веселилась, увидев мою кладбищенскую картотеку, приведенную в идеальный порядок, мои заметки для статей в «Перуанскую культуру», перечень писателей, которых я собирался интервьюировать для «Комерсио», распорядок моей работы и список расходов, сделанных мною, который теоретически доказывал, что мы можем существовать. После того, сказал я, как мы насладимся любовью, я прочту ей рассказ под названием «Благочестивая и падре Николас» и она должна помочь мне выбрать финал.
– Ну и ну, Варгитас! – смеялась она, поспешно сбрасывая платье. – Ты становишься мужчиной. А теперь, в довершение всего, обещай мне отрастить усы, чтобы у тебя была не такая младенческая физиономия.
Брак с тетушкой Хулией был действительно очень удачным и длился долго, намного дольше того срока, какой она сама и родственники предсказывали, которого желали и боялись: он продлился восемь лет.
За это время благодаря моей настойчивости, ее помощи и энтузиазму и при определенном везении сбылись и другие пророчества (мечты и надежды). Мы все-таки переехали жить в прославленные парижские мансарды, и я худо-бедно стал писателем и выпустил несколько книг. Я так и не закончил юридический факультет, но, чтобы хоть как-то ублажить мое семейство и иметь возможность легче зарабатывать на жизнь, получил университетский диплом в столь же скучнейшей из академических наук, как и право, – романской филологии.
Когда мы разошлись с тетушкой Хулией, вся наша многочисленная родня горько оплакивала это событие, ибо все (начиная с моей матери и моего отца) ее обожали. И когда через год я вновь женился – в этот раз на собственной кузине (дочери тетушки Ольги и дяди Лучо – какая случайность!), семейный скандал был не столь громким, как в первый раз (главным образом – скандальные сплетни). Но зато теперь я столкнулся с настоящим заговором, чтобы сочетать нас церковным браком, причем в заговор этот был втянут сам архиепископ Лимы (разумеется, он был нашим родственником), который поспешил подписать – в виде исключения – разрешение на новый брак. К тому времени наше семейство уже избавилось от страхов и было готово мужественно встретить любое безумство с моей стороны (а это означало, что я заранее прощен).
Я прожил с тетушкой Хулией год в Испании и пять лет во Франции, потом жил с кузиной Патрисией в Европе – сначала в Лондоне, затем в Барселоне. В те дни я заключил соглашение с одним из журналов Лимы, куда посылал свои статьи, за что редакция оплачивала мне билеты, и каждый год я мог приезжать в Перу на несколько недель. Эти поездки, дававшие мне возможность встречаться с семьей и друзьями, были для меня очень важны. Я намеревался остаться в Европе на неопределенное время по разным причинам, но прежде всего потому, что здесь в качестве журналиста, переводчика, диктора или преподавателя я всегда мог найти работу, при которой у меня оставалось свободное время. Прибыв в первый раз в Мадрид, я сказал тетушке Хулии: «Я попытаюсь стать писателем, а потому соглашусь на любую работу, если она не отдалит меня от литературы». Хулита ответила: "Может, мне обрезать подол, надеть тюрбан и выйти на Гран-виа[72] в поисках клиентов? И прямо с сегодняшнего дня?.." Конечно, мне чертовски повезло. Я преподавал испанский язык в школе Берлица в Париже, редактировал информационные материалы в агентстве Франс Пресс, переводил для ЮНЕСКО, дублировал фильмы на студиях Женевийе, готовил программы для Французского радио и телевидения – хорошо оплачиваемая служба оставляла мне по крайней мере полдня на литературный труд. Но проблема заключалась в том, что все написанное мною касалось Перу. Каждый раз при этом у меня возникало чувство неуверенности, ибо я терял ощущение достоверности (я все еще был маньяком «реалистического» творчества). И в то же время мне казалась невероятной даже сама мысль о возвращении в Лиму.
При воспоминании о Лиме, где я работал в семи местах, что едва могло прокормить нас и дать возможность читать, я писал урывками в те редкие свободные минуты, когда уже валился с ног от усталости, – при воспоминании обо всем этом у меня волосы вставали дыбом, и я клялся, что не вернусь на родину даже покойником. Кроме того, Перу всегда казалась мне страной печали.
Поэтому договоренность сначала с газетой «Экспресо», потом с журналом «Каретас» об обмене моих статей на два ежегодных авиабилета была для меня манной небесной. Месяц, проведенный нами в Перу (чаще всего зимой – в июле или августе), позволял мне вновь окунуться в привычную атмосферу, вернуться к пейзажам и людям, о которых я пытался писать в течение одиннадцати предыдущих месяцев. Мне была очень полезна (не знаю, как с точки зрения литературной деятельности, но психологически – бесспорно) инъекция энергии от встречи с Перу. Так приятно было вновь услышать речь перуанца, все эти словечки, восклицания, выражения, возвращавшие меня в среду, духовно мне близкую, но от которой я с каждым годом все больше отдалялся.
Поездки в Лиму, таким образом, были как бы отдыхом, тем не менее я буквально не знал ни минуты покоя и возвращался в Европу совершенно измотанным. Принимая ежедневные приглашения от обширного клана родственников и друзей на обеды и ужины, все свободное время я посвящал сбору материала. Так, однажды я отправился в зону Альто-Мараньона[73], чтобы видеть, слышать, осязать мир, ставший фоном в романе, который я писал в то время. На следующий год в сопровождении своих отзывчивых друзей я занялся систематическим изучением ночных притонов – кабаре, баров, публичных домов, где протекала горькая жизнь героя другой моей книги. Сочетая в себе приятное с полезным, так как эти «исследования» отнюдь не являлись обязательными, а если и были таковыми, то в изрядной степени развлекали меня сами по себе, не говоря о том, что были нужны для литературной работы. Во время этих поездок мне довелось заниматься тем, что никогда меня не увлекало, пока я жил в Лиме, и чего потом, возвращаясь в Перу, не делал: я посещал народные праздники, смотрел фольклорные танцы, бродил по трущобам, где жили бедняки, обошел столичные районы, которые не знал или знал плохо, – Кальяо, Бахо-эль-Пуэнте, Барриос-Альтос, играл на бегах, лазил по подвалам и склепам колониальных церквей и по дому, где (как предполагалось) жила девица Перричоли – возлюбленная одного из вице-королей.
Этот год я посвятил чисто литературным исследованиям. Я писал роман о времени диктатуры генерала Мануэля Аполинарио Одриа (1948-1956). На протяжении своего месячного отпуска в Лиме я дважды в неделю ходил по утрам в читальный зал Национальной библиотеки, где листал подшивки журналов и газет тех лет и даже испытывал что-то вроде мазохизма, просматривая тексты речей, которые секретари диктатора (юристы, судя по специфической риторике) писали для него. Выйдя из библиотеки, я пускался по авениде Абанкай, которая в полдень превращалась в огромный рынок бродячих торговцев. Тротуары заполняла густая толпа – многие мужчины и женщины были в пончо и широченных юбках, как принято в горных селениях; на шалях и газетах, расстеленных на земле, или наспех выстроенных из ящиков, жестянок и парусины ларьках была в разложена и продавалась всякая дешевка, какую только можно вообразить, от булавок и шпилек до платьев и костюмов, кроме того, разумеется, всевозможная еда, приготовленная тут же на углях. Это место Лимы изменилось больше других. На авениде Абанкай, сегодня запруженной толпой, среди которой немало пришельцев с гор, окутанной облаками дыма от жарева и острым ароматом специи, нередко можно услышать язык индейцев кечуа. Проспект совершенно не походил на ту широкую, строгую авениду конторских служащих и случайных нищих, по которой еще студентом-юнцом я бегал в ту же Национальную библиотеку. Сейчас она наглядно свидетельствовала о проблеме крестьянской миграции в города, за десятилетие вдвое увеличившей население Лимы: город оказался в кольце поселений, сгрудившихся на ближайших холмах, песчаных дюнах и пустырях, куда из провинции приходили искать убежище тысячи и тысячи людей, гонимых засухой, тяжким трудом, отсутствием всяких надежд и голодом.