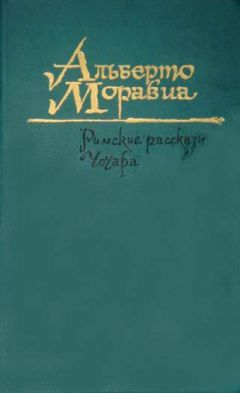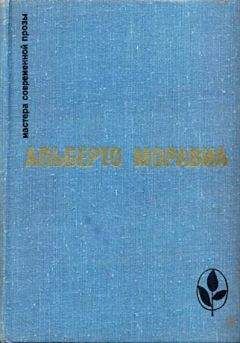Она так и подскочила, но ответила весело, и ее зеленые глаза при этом смотрели все время не на Карло, а на меня:
— Я ненавижу тебя за то, что ты… толстяк, тюфяк, обжора… Ты думаешь только о том, как бы поесть, и чем больше ты ешь, тем больше ты жиреешь. Мои подруги говорят, что я невеста короля Фарука… Когда я стою около тебя, это все разно что блоха рядом со слоном… Я для тебя не пара.
— Но ведь я тебя люблю!
— А я тебя ни чуточки.
Видели ли вы когда-нибудь плачущего толстяка? Когда плачет худощавый, ему верят; но про толстяка непременно скажут, что он притворяется. Карло снял очки и зарыдал в платок. В это время в комнату вошла мать Фаустины, неся супницу, доверху наполненную макаронами с томатной подливкой. Она изумленно спросила:
— Что произошло? Что с Карло?
— Плачет, — ответила Фаустина, весело пожимая плечами. — Это ему полезно. — И она встала с дивана. — Ну, я пошла… Ты хотел прийти, я повторила тебе то, о чем уже говорила, и теперь ухожу… У меня дела.
— Ты не поешь? — крикнула мать.
— Потом… Оставь мне что-нибудь… Прощай, Карло. Приятного аппетита… До свиданья, Марио.
Говоря это, она протянула мне руку и пристально посмотрела на меня своими зелеными глазами. Я почувствовал, что она погладила своими пальцами мои.
— Ну вот, — рассерженно проворчала мать, — остались только вы двое… Садитесь за стол и ешьте.
— Я не голоден, — сказал Карло. Но словно по волшебству слезы на его глазах высохли, и он уставился на супницу.
Я в самом деле не хотел есть: меня взволновали взгляды Фаустины и прикосновение ее пальцев. Я рискнул сказать:
— Не лучше ли нам уйти?
— А мне все выбрасывать? — закричала мать, уперев руки в бока. Домашние макароны!.. Садитесь и ешьте.
— Я не хочу есть, — робко возразил Карло.
Но в эту минуту в дверях появилась Фаустина и крикнула:
— Кто поверит, что ты не хочешь есть?.. Ешь, голубчик, ешь…
Она подскочила к Карло, который сидел, глубоко продавив диван, схватила его за руку, заставила встать и сесть за стол, повязала ему вокруг шеи салфетку и сунула в руку вилку. Тем временем ее мать с довольным видом накладывала на тарелку Карло гору макарон. А подавленный Карло твердил:
— Я совсем не голоден.
Но дымящаяся тарелка макарон, залитых ярко-красным томатным соусом, раздразнила, верно, его аппетит, потому что, повторяя плаксиво «я не голоден», Карло со слезами на глазах начал наворачивать на вилку макароны.
— Приятного аппетита! — крикнула Фаустина и снова выбежала из комнаты.
Ее мать тоже вышла, предварительно наполнив мою тарелку. Карло поднес ко рту вилку с огромным количеством макарон и пролепетал со слезами в голосе:
— Марио, сходи к Фаустине, пока она не ушла… Может быть, с глазу на глаз с тобой…
Не закончив, он склонил голову и отправил макароны в рот. Он ел, а слезы так и текли по его щекам.
— Ты прав, — сказал я обрадованно, — возможно, с глазу на глаз она согласится выслушать меня… Ты пока ешь… Я скоро вернусь.
Я встал из-за стола и отправился прямо в комнату Фаустины. Она стояла перед зеркалом и подкрашивала губы. Я затворил за собой дверь, подошел к ней и, обняв ее за талию, без лишних церемоний спросил:
— Мы увидимся завтра?
Искоса взглянув на меня своими зелеными глазами, Фаустина очень кокетливо ответила:
— Нет — сегодня.
— Сегодня? А когда?
— Через полчаса жди меня внизу в баре.
И не сказав больше ни слова, она сделала пируэт и выпорхнула из комнаты.
Я вернулся в столовую. Карло ел с аппетитом, но неторопливо: его тарелка была уже наполовину пуста. Я сказал:
— Мне, право, жаль, но она прогнала меня… Мне очень жаль…
Он проглотил добрую порцию, а затем опустил голову и зарыдал, накручивая на вилку макароны.
— Мерзавка… А я так ее люблю!
Теперь я тоже принялся за еду. После того как я поговорил с Фаустиной, у меня появился аппетит. Макароны под соусом и с острым овечьим сыром были действительно превосходны.
— Я не желаю ее больше видеть, — говорил Карло. — Даже если она будет умолять меня об этом.
Тарелка его была уже пуста, он снова наполнил ее.
— И правильно, — заметил я.
Одним словом, мы вдвоем — главным образом, конечно Карло — наполовину опустошили супницу. Вошла мать Фаустины и больше для проформы предложила нам поесть еще немного мяса. Я ответил, что мы уже наелись, и встал из-за стола. Но по выражению лица Карло, который продолжал сидеть, я понял, что он не отказался бы и от мяса. Наконец он все-таки поднялся, тяжело вздохнул и вытер салфеткой сначала рот, а затем глаза.
Попрощавшись с матерью Фаустины, мы ушли. Как только мы оказались на улице, я сказал Карло:
— Ну, я пошел — у меня свидание, — и, не дав ему опомниться, убежал.
Я поболтался немного на улице и в условленный час зашел в бар. Фаустина ждала меня. Она выглядела очень элегантной, на ней было изящное лиловое платье, а в руках она держала букетик фиалок. Она сразу же взяла меня под руку, говоря:
— Глупенький, почему ты так долго не догадывался, что нравишься мне?
Я не успел ей ответить. В эту самую минуту мы проходили мимо маленькой кондитерской, где продаются горячие неаполитанские слойки. У входа в кондитерскую со слойкой в руке, с набитым ртом и лицом, измазанным ванильным сахаром, стоял Карло. Сперва я почувствовал запах свежевыпеченного хлеба, а затем увидел его. Конечно, он заметил, как мы шли под руку, тесно прижавшись друг к другу. Но Фаустину это ни капельки не смутило.
— Прощай, Карло, — крикнула она ему, и мы прошли мимо.
Садоводство, в котором я работаю, находится в Читта-Джардино, и каждое утро, проезжая на автобусе по виа Номентана, я не могу удержаться, чтобы не взглянуть на ограду виллы, что находится за церковью Сант-Аньезе. Несколько лет назад я был садовником на этой вилле, и кусты жасмина вдоль ограды посажены моими руками; это я расположил у входа вазы с камелиями и посадил у самой стены дома глицинии, которые теперь, если только они не погибли, должны бы уже достигать третьего этажа. Из-за болезни хозяина виллы сад был заброшен и скорее походил на место свалки, чем на сад; а я из любви к сиделке, которая ухаживала за хозяином, в несколько месяцев превратил этот сад в настоящую оранжерею: разбил клумбы, посыпал гравием дорожки, посадил кусты сирени, а вокруг клумб и вдоль дорожек сделал красивое обрамление из аккуратно подстриженных кустиков самшита. Помнится, я посадил еще в центре одной клумбы большую магнолию из семейства грандифлора — как раз против окна Неллы, чтобы весной аромат цветов проникал к ней в комнату; а под окном у нее я посадил японику — удивительно красивое вьющееся растение с черными стеблями и красными цветами.
Нелла была сиделкой. Я был влюблен в эту крепкую девушку среднего роста, с рыжими волосами, с широким и свежим лицом, покрытым веснушками, и в очках — она была близорука. Нелла понравилась мне с первого взгляда потому, что она была такая сильная и здоровая, с пышным телом, выпиравшим из-под белого халата; понравилось мне и ее спокойное, немного замкнутое выражение лица, которое придавали ей веснушки и очки. Она была похожа на докторшу, и вот именно этот контраст между строгим лицом и цветущим молодым телом и заставил меня потерять голову.
Той весной здоровье синьора, за которым она ухаживала, беспокоило меня куда больше, чем мое собственное, ведь я знал, что если он выздоровеет или умрет, Нелла уедет и мне уже нелегко будет с ней встречаться. Всякий раз, когда она открывала утром окно комнаты, где лежал больной, и выглядывала в сад, я оказывался тут как тут, под окном, и спрашивал ее: «Как дела?» А она отвечала: «Ничего, понемножку» — и при этом лукаво улыбалась, потому что догадывалась о причине такой моей заботливости. Потом в течение всего утра я не раз видел ее в том же окне: то она капала в рюмку лекарство, то осматривала иглу шприца, перед тем как сделать укол. Я подавал ей знаки, а она только отрицательно покачивала головой, словно говоря: «Ты разве не видишь, что я в комнате больного?» Она, конечно, была очень добросовестная сиделка, куда добросовестнее мужчин, но она еще и хитрая была — все время ссылалась на свою работу, чтобы заставить меня вздыхать понапрасну, как делают некоторые девушки, которые, чтобы набить себе цену, всегда ссылаются на маму: мама, мол, этого не позволяет, а на самом деле они просто кокетничают.
По утрам я старался работать на участке перед фасадом виллы, потому что окно комнаты больного выходило как раз на эту сторону. А днем, зная, что после завтрака больной спит и Нелла воспользуется этим временем для встречи со мной, я переходил работать в глубину сада, который тянулся далеко-далеко; там, за рощицей молодых дубков, у самой ограды находился фонтан. И почти ежедневно, часа в два или три, Нелла приходила сюда, и мы проводили вместе с полчаса или час. Я срезал для нее какой-нибудь цветок: гардению, камелию или розу; а она, чтобы доставить мне удовольствие, прикалывала его у себя на груди, к халату. Потом она садилась на край фонтана, и я говорил ей о своей любви. Я был всерьез влюблен в нее и с самого же начала заявил, что хочу на ней жениться. Она молча выслушивала меня, и выражение ее лица становилось замкнутым. Я говорил ей: