— Отец моих детей… — наконец заговорила Инчунь.
Шест махнул пару раз и замер. Недвижный, человек походил на пугало.
— Женились они, только что свадьба прошла. — Инчунь глубоко вздохнула. — Вот, вина тебе принесла, твои сыновья, как ни крути.
Лань Лянь что-то пробурчал и махнул шестом ещё пару раз.
— Управляющий Пан с женой и дочкой были, подарили по картине в раме с Председателем Мао… — чуть повысив голос, взволнованно продолжала Инчунь. — Управляющий Пан вверх пошёл, теперь директор хлопкообрабатывающей фабрики, согласился устроить Цзефана и Хэцзо рабочими к себе, это с подачи секретаря Хуна. Секретарь Хун и к Цзиньлуну, и к Баофэн, и к Цзефану хорошо относится, вот уж поистине добрый человек. Отец, может, и нам приспособиться?
Шест вновь яростно заплясал в воздухе, опять западали на землю насекомые.
— Ладно, ладно, не сердись, если сказала что не так. Делай как знаешь, все уже привыкли. А это вино ведь со свадьбы твоих сыновей. Я потому и пришла заполночь да в такую даль. Выпей глоток, я и пойду.
Инчунь достала из корзинки блеснувшую в лунном свете бутылку, откупорила пробку и, пройдя пару шагов, подала бутылку Лань Ляню.
Шест застыл в воздухе, застыл и человек. Я видел, как в глазах у него сверкнули слёзы. Он вскинул шест на плечо, сдвинул назад шляпу и глянул на клонящуюся к западу луну, которая тоже ответила ему печальным взглядом. Взял бутылку и произнёс, не оборачиваясь:
— Возможно, вы все правы, я один не прав. Но я клятву дал и, если даже не прав, буду не прав до конца.
— Погоди, вот Баофэн замуж выйдет, уйду из коммуны и буду с тобой.
— Нет, единоличником, так во всём. Один так один, больше никого не надо. Против компартии я ничего не имею, тем более против Председателя Мао. Я не против коммуны, не против коллективизации, мне просто нравится трудиться одному. Все вороны в поднебесной чёрные, почему бы не быть одной белой? Вот я белая ворона и есть!
Он плеснул вином из бутылки в сторону луны и выкрикнул на редкость возбуждённо, торжественно-печально и уныло:
— Ты, луна, уже лет десять сопровождаешь меня в трудах моих, ты — светильник, ниспосланный небесным правителем. Ты светишь мне, когда я мотыжу свою полоску, светишь, когда сею, светишь, когда жну и когда молочу… Ты и слова не скажешь, и недовольства не выкажешь, и я перед тобой в большом долгу. В эту ночь позволь отблагодарить тебя вином, выказать сердечную признательность за всё, что ты для меня сделала!
Вино расплескалось в воздухе прозрачными капельками, словно тёмно-синий жемчуг. Затрепетав, луна подмигнула Лань Ляню. Это проявление чувств буквально потрясло меня. В эпоху, когда миллионы людей воспевали солнце,[204] нашёлся человек, который испытывал такие глубокие чувства к луне. Остатки вина Лань Лянь вылил в рот, потом протянул бутылку за спину:
— Ладно, иди.
И двинулся дальше, размахивая шестом. Инчунь опустилась на колени, сложила по-буддийски ладони и подняла их высоко вверх, к луне. В мягком лунном свете поблёскивали слёзы у неё на глазах, седые волосы и подрагивающие губы…
Из-за любви к этим людям я, забыв про возможные последствия, встал. Я был уверен, что в силу родства душ они смогут почувствовать, кто я, и не примут за оборотня. Опираясь передними ногами о мягкие и пружинистые стебли, я направился по тропке на краю поля и вышел прямо на них. Сложил передние ноги в малом поклоне и приветливо хрюкнул. Они уставились на меня, разинув рот, и в изумлении, и в недоумении. «Я — Симэнь Нао», — сказал я. Я чётко слышал, что из меня вырвалась человеческая речь, но они так и не откликнулись. Потом Инчунь издала пронзительный вопль, а Лань Лянь направил в мою сторону шест:
— Коли хочешь заесть до смерти, свинья-оборотень, воля твоя, только умоляю — не топчи моей пшеницы.
Сердце сжала бескрайняя печаль: разные дорожки у людей и животных, трудно им сойтись. Опустившись на передние ноги, я нырнул в пшеницу, совершенно подавленный. Но чем ближе к абрикосовому саду, тем больше поднималось настроение. У всякой живой твари в поднебесной своё знание. Всякое страдание: рождение, старость, болезни, смерть — и превратности судьбы: печали и радости, разлуки и встречи — суть исполнение закона, и обратного хода ему нет. Раз теперь я в шкуре хряка, мне и делать, что надлежит хряку. Лань Лянь с упрямым достоинством держится в одиночку. Вот и мне, хряку Шестнадцатому с необычайными способностями, тоже надобно отважно и мудро творить выдающиеся дела, чтобы, как говорится, сотрясти небо и всколыхнуть землю, втиснуться в своём свинском образе в человеческую историю.
Когда я очутился в абрикосовом саду, размышления о Лань Ляне и Инчунь отошли на второй план. Почему, спросите вы? Да потому что Дяо Сяосань уже чересчур завлёк Любительницу Бабочек в мир страстей. Из двадцати девяти остальных самок четырнадцать уже сбежали из загонов, другие пятнадцать или бились головой о калитки, или верещали, глядя на луну. Начиналась прелюдия великого брачного сезона.
Ведущий актёр ещё не появился, а тот, что должен выходить на подмену, уже на сцене. Куда это, мать его, годится!
ГЛАВА 29
Шестнадцатый выходит на великую битву с Дяо Сяосанем. Танец верности[205] сопровождает исполнение песенки о соломенной шляпе
Опираясь спиной о знаменитое абрикосовое дерево, Дяо Сяосань загребал левой ногой жёлтые плоды и складывал в соломенную шляпу. Время от времени он зажимал абрикос правой, бросал прямо в рот и жевал, причмокивая и выплёвывая косточки на несколько метров в сторону. Он держался так вольготно, что я даже засомневался, был ли ранен этот негодяй, когда вцепился зубами в хлопушку. Под тоненьким деревцем метрах в пяти от него с маленьким зеркальцем в одном копыте и обломком расчёски в другом прихорашивалась Любительница Бабочек, этакая легкомысленная красотка. Свиноматушка моя, слабина твоя в том, что ты размениваешься по мелочам! Думаешь, зеркальце, обломок расчёски — и все хряки твои? Метрах в десяти распущенно повизгивали, глядя на Дяо Сяосаня, вырвавшиеся из загонов самки. Он то и дело швырял в их сторону абрикосы из шляпы. На каждый бросалась целая толпа. Что же ты на одну Любительницу Бабочек пялишься, третий братец, мы тоже любим тебя, тоже хотим потомства от тебя. Они подзадоривали Дяо Сяосаня непотребными словами, и от предчувствия, что скоро у него будет множество жён и наложниц, он не помнил себя от радости, воспарил как небожитель. Дёрнув ногами, он замурлыкал какой-то мотивчик и пустился в пляс со шляпой в копытах. Дюжина самочек тоже закружились под его мотивчик, а некоторые стали кататься по земле. Танцевать они не умели, и от этого отвратительного зрелища я исполнился презрения. Тем временем Любительница Бабочек положила зеркальце и расчёску у корней дерева и, виляя задом и крутя хвостиком, направилась к Дяо Сяосаню. Приблизившись, она вдруг развернулась и высоко задрала зад. Я рванулся в прыжке, как антилопа в африканской пустыне, и очутился между ними. Теперь о наслаждении пусть лишь мечтают.
С моим появлением у Любительницы Бабочек желания тут же поубавилось. Она развернулась назад, отступила под тоненькое деревце и принялась закатывать в рот алым язычком упавшие абрикосы с червоточинами и смачно уплетать их. Легкомысленность и отсутствие постоянства заложены в самой природе самок, их и упрекнуть не за что. Только так можно обеспечить попадание в матку и соединение с яйцом спермы, несущей наилучшие гены, и выносить замечательное потомство. Истина несложная, её понимает любая свинья, как её не понять Дяо Сяосаню с его интеллектом. И он метнул в меня шляпу с остававшимися в ней абрикосами, одновременно выругавшись сквозь зубы:
— Сукин сын, всё испортил!
С моим ясным зрением и ловкостью, я увернулся, ухватил шляпу за край, встал на задние ноги вертикально, быстро крутанулся всем телом, потом твёрдо упёрся левой ногой, в то время как тело вместе с зависшей в воздухе правой молниеносно крутанулось на сто восемьдесят градусов, и огромная сила инерции заставила шляпу с абрикосами вылететь у меня из руки, как диск из руки тренированного дискобола. Золотистая шляпа очертила красивую кривую и улетела к уже удалившейся луне. В воздухе вдруг зазвучала мелодия песенки: «Ла-ла-ла, ла-я-ла-я-ла. Улетела мамы шляпа — улетела на луну. Ла-я-ла-я-ла». Под радостное хрюканье самок — уже не только тех, что были здесь, а сотен по всей свиноферме — те, кто сумел, выпрыгнул на волю, а не сумевшие встали, опершись на стенку, и уставились в нашу сторону — я опустился на четыре ноги и спокойно, но категорично заявил:
— Это я, старина Дяо, не чтобы тебе всё испортить, а чтобы гены потомства были доброкачественными.
Упёршись задними ногами в землю, я поднялся и устремился на Дяо Сяосаня. Он тоже бросился на меня, и мы столкнулись нос к носу метрах в двух от земли. Какое у него, оказывается, твёрдое рыло! Да ещё этот тошнотворный запах изо рта. С ноющим от боли носом и звенящей в ушах песенкой о шляпе я грохнулся на землю. Перекатившись, вскочил, потрогал нос — на лапе остались следы голубоватой крови.

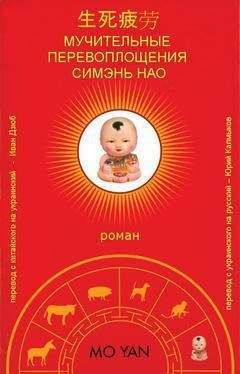



![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)